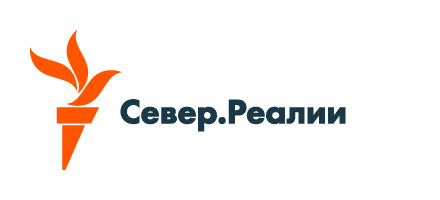Кинорежиссёр, сценарист, продюсер Рома Либеров выпустил музыкальный альбом "После России". Этот проект обращается к наследию вынужденной эмиграции, которая случилась в России около столетия назад. Альбом состоит из песен, написанных на стихи поэтов-эмигрантов первой волны, принадлежащих к так называемому "незамеченному поколению".
Среди исполнителей – известные российские музыканты, многие из которых также сегодня оказались в эмиграции: Noize MC, Монеточка, Шым ("Каста"), группы Tequilajazzz, "Ногу свело!", "Наив", "Порнофильмы", "Сансара", "АлоэВера" и другие.
"После России" – так назывался сборник стихов Марины Цветаевой, вышедший в Париже в 1928 году. Напоминая о часто забытых и оказавшихся ненужными своей родине поэтах начала ХХ века, проект "После России" пытается связать две эпохи. В предисловии к альбому говорится, что это "попытка приблизить их судьбы к нашим" и что "символическим финалом первой волны русской эмиграции можно считать депортацию из страны видных интеллектуалов осенью и зимой 1922/23 года (столетие назад) – позже эти события назвали "философским пароходом".
О том, как создавался этот альбом, каким образом тексты прошлого века оказались вдруг особенно созвучными нашему времени, корреспондент Север. Реалии поговорил с Ромой Либеровым и другими участниками проекта.
– Конечно, идея не столько пришла, сколько ее подтолкнули прийти, броситься мне на шею. Потому что первой эмиграцией я занимался давно, незамеченным поколением тоже, этому занятию уже несколько лет, – говорит Рома Либеров. – Я думал, что эта идея выварится еще когда-то очень нескоро и во что-то совершенно другое. Думал о какой-то фигурной композиции. Естественно, когда я оказался сам в эмиграции (я уехал еще до войны) и начал наблюдать, как и кем новое российское рассеяние пополняется, стало понятно: время пришло именно сейчас. Я предпочел бы, чтобы никакой переклички не было, но этот сюжет стал и нашей судьбой.
– Какие точки сближают для вас эмиграцию столетней давности с нынешней?
– Все эмиграции перекликаются – с точки зрения вынужденной разлуки с домом. К сожалению, мне кажется, что российская эмиграция – это особенное дело. Мы как будто не способны объединиться, организовываться даже перед лицом трагедии, даже в изгнании. Изучая первую эмиграцию, я наблюдаю бесконечное расслоение, ссоры, невозможность друг друга поддержать, так и сейчас происходит, к сожалению. Похож и бытовой опыт. Парадоксальным образом пересекаются все маршруты, тот же Константинополь, тот же Белград, та же Прага, тот же Париж, тот же Берлин. А еще вспомните Тифлис 1918–19 года во времена независимой Грузии. Просто удивительно.
– Это сближения, а разъединяющий опыт, наверное, тоже есть?
– Большая часть первой эмиграции были людьми воевавшими или военными, то есть из другого теста замешанными. Сегодня мы не можем такого сказать. И масса других различий, конечно. Меня интересует, как нам извлечь опыт и попробовать не совершить ошибок, хотя бы тех, что совсем на поверхности. Ведь сто лет назад каждый, отправляясь в эвакуацию из Крыма или Одессы, не собирал чемоданы, казалось, что это очень временное явление. Мы знаем, насколько временным оно было. К сожалению, будучи готовым и ожидая трагедию, 24 февраля в 6 утра, открыв новости, я понял – все, это случилось, это теперь навсегда. С той минуты я в этом трагическом ощущении живу. Думаю, нам предстоит всю жизнь в нем провести и, главное, как-то объясняться с миром теми способами, которые доступны тому или другому.
– Вы упомянули точки эмиграции столетней давности, Берлин, Париж, но сегодня Европа стала гораздо более закрытой для русских. Хотя, конечно, и у Тэффи мы об этом читаем, помните – о том, что все ездят, а русские хлопочут о визах.
Из рассказа Надежды Тэффи (1872–1952). "Визы, каюты и валюты" (1920).
"Не пожелай себе визы ближнего твоего, ни каюты его, ни валюты его".
Так гласит ново-беженская заповедь… Теперь виза приобрела форму и значение почти мистическое, посему и человек, общающийся с нею, называется визионером. Бьется человек, старается и права все имеет на какой-нибудь въезд или выезд – а визы не получает. И почему – неизвестно…
Выплывают из мистического тумана странные штуки. Из Лондона советуется ехать в Париж через Голландию. Почему?
Потому что видят визионеры то, чего другим видеть не дано. Видят они, что какие-то большевики проехали прямым путем. Следовательно, раз вы тоже поедете прямым путем, то и вы большевик. А так как Франция в большевиках не нуждается, то вас во Францию и не пустят. Ясно? Железная логика визного дела несокрушима. Раз по той же дороге, значит такой же".
– Да, я прекрасно помню, – говорит Рома Либеров. – Нет, мне так не кажется, и сегодня вполне себе Париж, вполне себе Берлин, просто несколько изменилась геополитическая ситуация. А то, что повторяются пути, – это же очевидно.
– Но в отношении к русским – принципиально изменилось все же. 100 лет назад бежавшие от революции вызывали сочувствие, революция бесчинствовала только внутри России. А сейчас бегут из страны, которая разрушает другую страну.
– Конечно, трагедия невиданная. Кто мог предполагать, что наша родина станет открытым террористом, отношение к которому спроецируется на граждан страны, что эмоционально понятно. Рационально это не всегда понятно. Но все-таки давайте будем справедливы: гуманитарные визы существуют, в Европе живет огромное количество россиян, а не только в Турции или Казахстане. С начала войны я объехал много европейских стран в поисках друзей, новых, старых эмигрантов. Снова поблагодарим Белград, несмотря на такое сложное отношение сербов к сегодняшней России, снова поблагодарим Чехию, где, с одной стороны, миллионы беженцев из Украины, но и 50 тысяч россиян. Посмотрите, сколько гуманитарных виз выдано Берлином, сколько там россиян, сколько украинцев. Есть, конечно, более агрессивные точки. Но даже в Литве, в Латвии и в Эстонии множество моих друзей из России, которых эти страны приютили безо всякого ущемления их прав.
Оглядываясь назад, через столетие, Рома Либеров с особенным сочувствием смотрит на тех литераторов, которые покинули Россию, не успев сделать себе имя. Тем, кто профессионально состоялся до отъезда, было немного легче: вместе с ними уехала большая часть их аудитории, и можно было давать концерты, читать лекции, печататься и издаваться. Куда трагичнее сложилась судьба тех, кто уезжал в эмиграцию, не успев еще состояться на родине.
– Что главное в вашем проекте – открыть имена, которые мы не знаем? Но ведь время всегда хоронит большую часть литераторов, это нормально, почему вы решили вспомнить забытое?
– Я в целом не мыслю историей искусств. Мне кажется, все дело в читателе, если он находится, ему все равно, был ли это поэт первого ряда или второго, его интересует прочитанное, перекличка сердцебиения, опыта. Эти имена и мне ничего не говорили, просто мне повезло до них дочитаться и полюбить по-настоящему. И мне захотелось, чтобы эти голоса были слышны. Ведь в альбом попало меньше двух десятков поэтов, а сколько этих имен – в знаменитой антологии "Вернуться в Россию стихами" их было около 200. Она вышла в 1990-х, в короткий период, когда возникла вдруг в русской литературе эмигрантская поэзия, до того не существовавшая. Уже тогда я думал о страшных вещах, происходивших дома, думал, что перед нами встанет выбор. Но тогда размышление об отъезде еще походило на решение. Сейчас, когда это стало нашей судьбой, когда решение приняли за нас, все это зазвучало совершенно по-другому. Зачем же исчезать этому? Все искусство состоит в передаче опыта проживания одним или другим подходящим образом.
– Как вы приглашали музыкантов для участия в проекте? Многие отказали?
– Не многие, но отказали – на разных стадиях, с ранением меня и без ранения меня. Далеко не все из них живут в России. Понятно, что я не могу назвать тех, кто отказался. А согласившихся мы видим в альбоме. Все 16 композиций мне дороги одинаково. Все они рассказывают историю – о случившейся трагедии, о ее необратимости, о надеждах, о снах, о том, что приключилось в изгнании, и о том, как эти голоса вернулись. Последнее звучащее стихотворение – это тревога, которая объединяет нас сегодня с Георгием Ивановым в 1943 году, ровно 80 лет назад, это невероятно.
Это стихотворение Георгия Иванова читает в самом конце альбома сам Рома Либеров.
Не станет ни Европы, ни Америки,
Ни Царскосельских парков, ни Москвы –
Припадок атомической истерики
Все распылит в сияньи синевы.
Потом над морем ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок…
И Тот, кто мог помочь и не помог,
В предвечном одиночестве останется.
Чтение звучит как будто издалека, накладываясь на последнюю песню альбома, написанную тоже на стихи Георгия Иванова, где есть знаменитые пророческие строки:
"Но я не забыл, что обещано мне / Воскреснуть, вернуться в Россию стихами". И непонятно, что пылает сильнее – горькая надежда на отдаленное воскресение или горький упрек тем, кто "мог помочь и не помог".
– Вы сказали о невозможности русских объединяться, которая была и тогда видна, и сегодня. С чем вы связываете это качество? Мы такие плохие?
– Не знаю, это что-то из области социологии или философии общего дела. Давайте вместе поищем ответ, почему мы такие. Почему мы позволяем все время себя разделять и сами горазды разделяться? Недавно очень известный и уважаемый мною человек вдруг написал в фейсбуке, как ему неприятна песня "Расстрел" в исполнении Монеточки. Поскольку оскорблено его любимое, я так понимаю, или одно из важных стихотворений "Расстрел" Набокова. Мне это кажется до того странным. Каждый имеет право что-то любить или не любить, но как можно так публично заявлять сейчас, когда на нас пишут доносы Красовский, Прилепин, после того как Лизу Монеточку признали "иноагентом", гадят у нее под квартирой, и ей, 24-летней молодой маме, тяжело, она в эмиграции. Это одна из наших проблем. Почему мы все, находясь в довольно страшных, новых для нас условиях, не побережем друг друга? Почему, как у моего любимого поэта Михаила Генделева, "милосердие выпало из словаря"? Неужели непонятно, что надо друг друга поддерживать, беречь, даже если тебе что-то не нравится, находить добрые слова, потому что мы все в беде.
– А как вы для себя объясняете этот феномен?
– Я не могу его объяснить. У меня об этом закрепленный пост в инстаграме. Я в нем цитирую Бориса Вильде, важного участника французского Сопротивления, русского мальчика, поэта и писателя, он тоже призывает к милосердию, говорит, что воевал против Германии, но не против немцев. Немцы выполняют свой долг, как мы выполняем свой. Конечно, это никому не нравится, эмоционально сложно. Вы знаете, порой легче объясниться с украинцами, гораздо быстрее находится милосердие с их стороны. Я для себя решил с 24 февраля, что если лично я что-то сегодня и делаю, то только служащее делу объединения. И проект "После России", сложный, занявший много времени, первый большой проект в нашем новом российском рассеянии, тоже направлен на объединение и артистов, и слушателей, и текстов, и биографий.
– Известно, что обычно этнические группы, диаспоры бывают успешны именно в силу взаимопомощи. Почему мы так не умеем, кто виноват – проклятый царизм, большевики, бившие по рукам за любые инициативы? У нас что, особый путь и в этом?
– Я человек среднего ума. Мне кажется, что мы всю жизнь жертвы чего-то – хамства, ментовского произвола, дебилов-одноклассников, что не упускаем случая утвердиться. Пирамида унижения действует всегда одинаково: унизили тебя – унизь в ответ. Редко кто из нас обретает всепрощение и свободу от унижения. Свободного человека невозможно унизить. Он в ответ на хамство подумает, что, наверное, этот человек несчастлив, а я счастлив. Лично я стремлюсь к этому ощущению. Это ужасно болезненно, это предмет наших постоянных разговоров, почему мы позволяем себе не отвечать на письма, на сообщения, впроброс друг о друге говорить. Сейчас, казалось бы, перед лицом такой трагедии, такого совсем не должно быть.
– Очень страшное название у вашего альбома, "После России" – хоть это и название цветаевского сборника. Вы считаете, что какой-то приемлемой России больше нет и не будет?
– Я буду рад ошибиться, но, к сожалению, наша жизнь, в частности, моя теперь называется "После России". Этому поколению предстоит прожить дальнейшие годы, когда еще в целом многое возможно, но отобран дом, отобрано все. Эмоциональная ситуация такая, при которой многие просто не могут разогнуться. Я боюсь, что эта жизнь теперь будет "после России" на несколько поколений вперед.
– Что будет с самой страной, как вы думаете? Она так и останется империей или развалится? У нее только этот путь или все-таки есть надежда встать на нормальный, всех цивилизованных народов?
– В силу скудоумия я не в состоянии сделать никаких политических, футурологических прогнозов. Я могу только о чем-то мечтать или чего-то хотеть. Во-первых, мне хочется вернуться домой и жить дома. Во-вторых, мне хочется вещей, которые вряд ли произойдут, потому что они чреваты признанием вины, расплатой за невиданную трагедию, которая случилась, разбирательством на уровне каждого человека. Эстафета передана, больше нет никакой немецкой вины, теперь есть российская вина, с ней будут жить несколько поколений. Это огромная воля и огромная работа. Это катастрофа для ощущения нации, россиян. Конечно, должна произойти беспрецедентная децентрализация, поскольку централизация, как мы выяснили, непродуктивна.
– А это возможно?
– Это все из разряда пустых пожеланий. Найдется огромное количество мудрых людей, которые скажут, что такая гигантская территория не может существовать таким или сяким образом. А если серьезно, я знаю одно: историю пишут победители. И мне очень хотелось бы, чтобы не было возможности написать очередную выдуманную историю, очередной раз огромную страну завести в тупик. Мне хотелось бы, чтобы возникла возможность разобраться с историей. Это будет очень тяжело и сложно, я не знаю, к каким это приведет последствиям, но рано или поздно это нужно сделать. Иначе этот туман и мрак надолго, если не навсегда.
– Вы говорите о вине России сейчас, но мы ведь не разобрались со своей виной за чудовищные советские преступления. Да и отношение к своим солдатам во время Великой Отечественной войны тоже примыкает к этому же огромному и страшному острову. Может ли Россия двинуться куда-то, не разобравшись с этим?
– Нас ждут страшные разбирательства, они коснутся всей истории последних двух столетий. Но нам должен выпасть этот шанс, который у нас был, но мы его упустили. Короткое время, когда было очевидно, как выглядит зло. Но это был очень короткий период, и мы не успели зафиксировать это.
– Как вам кажется, что в этом контексте будет с русской культурой? Про ее отмену много говорится. Она выживет? Если выживет, то как?
– Русскоязычная культура никуда, конечно, не денется. Она не зависит от трагедии напрямую. Трагедия может породить очередную культуру. Более того, мне кажется, очень скоро возникает колоссальный интерес к русскоязычной культуре: надо будет разобраться, кто мы такие. Это будет интересно всему миру. Ведь будем до конца честны, то, что случилось 24 февраля, было допущено большим количеством цивилизованных стран. И фокусировать всю вину на народе Российской Федерации – просто нечестно. И до сих пор очень много двойственных ситуаций случается каждый день, и с этим тоже нужно будет разбираться. У нас уже был такой пример, я читал документы об открытии Второго Западного фронта. Это перекликающиеся сюжеты, наполненные двоякомыслием, лицемерием. Это не значит, что я не благодарю за поддержку, но мы же знаем, что происходит.
– Да, очевидные параллели поражают.
– А российская культура никуда не денется. Я так благодарен, вышел наш альбом, поэтический, милосердный, скорбный, там есть прямые отпевания, мы не декларируем никаких политических позиций. И колоссальный интерес со стороны цивилизованного мира, площадки американские, европейские не отказывают нам, равно как и российские, потому что в этом нет ничего журналистского. Мы пытаемся размышлять, скорбеть, сочувствовать, петь, думать, читать стихи. Это неизбежно, мы должны это делать, иначе кем мы все станем?
– И все-таки разговоры об отмене русской культуры продолжаются, россиян исключают из проектов, и культурных, и научных…
– Со мной такое случилось многажды в самых неприятных ситуациях и выражениях. Есть ли у меня претензии? Нет. Эмоционально это понятно. То, что люди лицемерят или на волне эмоций не способны подняться над ситуацией и понять, что стоит делать, а чего не стоит – это другое. Но, может быть, вообще хватит кого-либо обвинять, предъявлять претензии. Такая трагедия в ежедневном режиме, где мы еще такое наблюдали?
– Вы уже представляли где-то свой альбом?
– Он вышел 13 января, мы собрали и продолжаем собирать беспрецедентную прессу. У нас в расписании на три месяца вперед разного рода активности. Сегодня же альбом выходит на разных платформах: Apple music, Spotify, "Яндекс. Музыка", "ВКонтакте". Наша аудитория уже многомиллионная.
– Что, по вашему, больше всего привлекает в этом людей, параллель двух эмиграций через сто лет?
– Думаю да, но я надеюсь, что самое ценное – это та эмоция, та история, и то утешение, и та надежда, и те сны, которые туда заложены. Я надеюсь, что это помогает, а не разрушает, объединяет, а не разделяет. Это очень для меня важно.
– Над чем вы сейчас работаете?
– Я думаю, как жить дальше, насколько мои замыслы уместны для меня самого. Альбом, хоть и вышел, требует большой ежедневной работы, поддержки, тем более доносы на него пишет огромное количество всяких правых. У нас работает уникальный сайт, для которого мы специально с нуля, поскольку это незамеченное поколение, написали все биографии, подобрали цитаты, перешерстили огромное количество дневников. Все это доступно теперь для очень широкого круга. У нас колоссальное число посетителей сайта. В нашем инстаграм-аккаунте еще больше стихов, информации, фотографий. Это нуждается в ежедневном сопровождении текстами, в поисках стихотворений и многого другого. Это как выпущенный спектакль, он же тоже нуждается в заботе.
– Вы продолжаете работать на русскоязычную культуру, хотя считаете, что России больше нет. В этом нет противоречия?
– Никакого. Русскоязычная культура – это же не Россия. Я надеюсь, что я всю жизнь буду этим заниматься. Я не в состоянии это бросить и полюбить что-то другое. Работа будет продолжаться и внутри России, где осталось множество дорогих талантливых людей, и за пределами России. Но мы все это проживали, об этом наш альбом "После России". Ведь Россия в изгнании так себя и называла – "альтернативная Россия", "Россия в изгнании". У этих нескольких миллионов человек было полное ощущение, что есть совдепия, советская Россия, и другая Россия, представителями которой были они.
– Во время той войны книги Гете, Шиллера несли на помойки, сейчас с нами происходит примерно то же самое. Вы считаете, что маятник когда-то качнется в другую сторону?
– Я в этом не сомневаюсь. Жалко только, что мы не помним примеров, которые должны нас от чего-то ограждать, удивительно, что цивилизованный мир не усваивает никакого опыта. Вроде все знают, что так нельзя. Значит, не только мы, россияне, но и весь мир постоянно попадает в западню, что никак никого не извиняет и не выгораживает. Я надеялся, что мое поколение пройдет мимо такой трагедии, что на моей жизни этой беды не случится, а теперь оказалось, что мы застряли в собственных учебниках истории. Теперь каждый день приходится решать, как жить.
Среди тех, кто поет песни альбома "После России", – рэпер Шым, участник группы "Каста". Музыкой он занимается уже 20 лет, до начала войны и до фактического запрета группы в России. Сейчас живет в Лиссабоне, где открыл бар. По словам рэпера, он всегда любил работать с чужими песнями, делать переводы, рэп-пересказы. Для проекта "После России", признается Шым, ему труднее всего было выбрать стихотворение для песни.
– Мне нужен был текст, наиболее близкий к рэпу, а не для пения, и большинство текстов не подходили из-за стихотворного размера. И тут Рома Либеров предложил стихотворение, написанное энергичным четырёхстопным анапестом.
Это было стихотворение, начинавшееся так:
Надвигается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части.
Человек начинается с горя. А ты
Простодушно хранишь мотыльковое счастье.
Его автор, Алексей Эйснер, родился в 1905 году в семье офицера, учился в Петербургском кадетском корпусе, после разгрома Белой армии вместе с семьей уплыл из Новороссийска в Константинополь. Хотя Алексею удалось закончить русский кадетский корпус в Сараево, работать пришлось мойщиком окон и рабочим на стройке, что не помешало ему войти в поэтические круги русской эмиграции. К концу 1920-х годов он так мечтал вернуться, что вступил в Союз возвращения на родину. В 1936 году был бойцом 12-й Интернациональной бригады в Испании, впоследствии работал в советской разведке. Вернувшись в СССР 1940 году, был арестован, получил 10 лет лагерей, а потом бессрочную ссылку, но после смерти Сталина был реабилитирован и в дальнейшем жил в Москве. Его стихотворение со строчкой "Человек начинается с горя" было невероятно знаменито среди русских эмигрантов.
– Я пробовал читать этот текст под пять разных инструменталов, – вспоминает Шым. – И под каждый он звучал по-особенному. То гипнотически, то предсмертной запиской, а то вообще конферансом. Но вариант, когда текст зазвучал черно-белым фильмом, меня устроил. Музыку написал Вячеслав Талецкий. Он, кстати, автор музыки "Корабельной песни" "Касты".
– А попадались ли вам раньше стихи Алексея Эйснера?
– Нет, хотя слова "Человек начинается с горя" мне встречались. В стихах его эмигрантского периода так много горечи по утраченной России, что сейчас мне трудно их читать.
– Как вы смотрите на эмиграцию столетней давности, интересны ли вам эти люди, эти поэты?
– Успех революции 1917 года мне видится трагедией России. Сходство тех событий с сегодняшним днем, мне кажется, лишь условное, но если путинизм окрепнет и Россия пойдет путем чучхе, то увы, оно проявится сильнее.
Еще одна участница проекта – вокалистка Race to Space, Green Point Orchestra, ВИА "Татьяна" и других групп Мириам Сехон. Она актриса, училась на режиссерском факультете ГИТИСа у Сергея Женовача. С Ромой Либеровым познакомилась в 2015 году, когда он готовил к выходу фильм "Сохрани мою речь навсегда".
– Я там озвучивала молодую Надежду Яковлевну Мандельштам, Инна Чурикова – взрослую Надежду Яковлевну, – рассказывает Мириам Сехон. – У меня были музыкальные группы – в одних я пела чужие песни, в других свои, мы писали музыку. Когда началась война, многие из нас разбежались по разным странам, Рома решил делать альбом со стихами незамеченного поколения – потерянного сто лет назад. Я давно хотела что-то сделать с моим близким другом Васей Зорким, который оказался в Литве, а я в Канаде. Мы решили взять парную историю Раисы Блох и Михаила Горлина, их роман в стихах. Смешно, что мы выбрали примерно одни и те же тексты. Вася написал песню, я сходила на студию, записала вокал.
– Песни для этого альбома написаны на стихи неизвестных поэтов – для вас они тоже стали открытием? Вам было важно, что их взяли и подняли из мрака?
– Конечно, важно. Все-таки стихи поэтов, которых мы знаем и читаем, где-то звучали, кто-то уже писал на них музыку. А тут неизвестные тексты, про кого-то я знала, про кого-то нет. Это малая-малая часть того наследия, которые собирает в своем проекте "Незамеченное поколение" коллега и подруга Ромы Полина Проскурина-Янович. Эти тексты сегодня кажутся очень близкими – мы оказались в таком же положении, мы тоже бежим из России. И Россия как будто сейчас в таком же состоянии. Читаешь новости и думаешь: неужели действительно они сейчас отберут всю недвижимость у людей, посадят всех, кто лайкнул "Медузу", а самых важных политзаключенных отправят отстраивать Донецк? Это уже было, неужели мы в это еще раз окунемся?
Кроме того, оказалось, что многие из забытых стихов – это просто хорошие стихи и отлично ложатся на музыку.
Не каждое стихотворение может стать текстом для песни, и не каждый текст для песни можно прочесть как стихотворение. Эти тексты звучат очень современно, в них нет высокопарности. И в этой простоте, непритязательности есть пронзительная нота, которая и сейчас, и всегда будет попадать. Мы понимаем, что есть важные связи вне времени, вне географии, даже вне жизни. История Горлина и Блох – невероятно драматичная, они оба умерли в лагерях вдали друг от друга, ребенок у них умер еще раньше от болезни.
Раиса Блох родилась в 1899 году, окончила Таганцевскую гимназию, училась на историческом факультете Петроградского университета, в 1921 или 1922 году уехала из России, жила в Берлине, где познакомилась со своим будущим мужем, поэтом и филологом Михаилом Горлиным. Оба они были членами Берлинского кружка поэтов. В 1933 году Горлину и Блох пришлось бежать из нацистской Германии во Францию. В 1941 году Горлин был арестован и погиб в одном из немецких концлагерей. В 1943 году Раиса Блох попыталась перейти швейцарскую границу, была схвачена и отправлена в концлагерь Дранси, где тоже погибла. При жизни ее стихи довольно часто появлялись в печати, романс на самое известное ее стихотворение "Принесла случайная молва…" пел Вертинский.
– Те люди, которые уехали 100 лет назад, все время смотрели в сторону России, хотели вернуться. А вы?
– Во-первых, я не уверена, что все хотели вернуться, – говорит Мириам Сехон. – Во-вторых, те люди, о которых идет речь в этом альбоме, уехали очень рано, в юном возрасте. Вот сейчас я наблюдаю свою дочь, в марте ей будет 15. С одной стороны, она все время говорит: я хочу вернуться, хочу в Москву, хочу там учиться, не могу здесь находиться. А с другой стороны, говорит: я не могла бы учиться в школе, где надо петь гимн и ходить на "Разговоры о важном". Мы обе уже понимаем: не то что России, даже той Москвы, которая была в людях, которых мы любили, куда приезжали музыканты иностранные, да много чего интересного было, – той Москвы больше нет.
До войны и эмиграции Мириам Сехон ходила на оппозиционные митинги, участвовала в акциях в поддержку "Мемориала", Юрия Дмитриева и других политзаключенных.
– Я думаю, если понадобится, у меня найдется много лайков под постами "Медузы", "Дождя". Но меня гнал не страх, а ощущение, что я непонятно чем жила все эти 20 лет. Мы, конечно, знали, что не поменяем эту власть сегодня же, но, рожая детей в России, мы надеялись, что хотя бы к их, условно, совершеннолетию что-то поменяется, а пока мы меняем то, что можем поменять. Мы помогали детям-сиротам, психоневрологическим интернатам, хосписам. Мы привлекали к этому внимание, я видела прогресс.
– А когда перестали видеть?
– В 2014 году пошел регресс. Но какая-то надежда еще была, а тут с февраля выяснилось, что никакого прогресса не существует, и вообще непонятно, что мы делали все эти годы. Все иллюзии в секунду развеялись, оказалось, что мы были в розовых очках. Именно обесценивание всего, что делалось в предыдущие годы, привело к отчаянию, к решению уехать и к первой в жизни настоящей депрессии, – говорит Мириам. – Сейчас у меня нет разрешения на работу, я не пою, не играю в театре, не снимаюсь в кино, не занимаюсь благотворительностью, а просто, условно, превратилась в домохозяйку. Но этот шок и это обесценивание всего, что я делала раньше, – это некое пересобирание себя заново. Конечно, я скучаю по людям, которые остались, по любимым местам. Но у меня нет ощущения, что я вернусь, к сожалению. Просто я не понимаю куда.