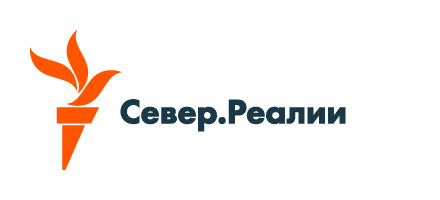В 50 регионах России с 20 января по 2 февраля проходит ежегодная "Неделя памяти", посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. В Петербурге, как и в других российских городах, живут бывшие узники гетто и концлагерей – те, которые во время войны были детьми.
Историки относят начало Холокоста к 1933 году, когда евреи в Германии начали подвергаться гонениям и дискриминации. Но физическое уничтожение евреев Европы, так называемое "окончательное решение еврейского вопроса", началось на оккупированной части СССР, где, по данным книги И. Альтмана "Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР", было уничтожено 2 825 000 евреев. Причем, в отличие от Европы, делалось это не тайком, не в лагерях смерти, а открыто – на глазах у местного населения и при его активном участии, в итоге выжили всего 4% из тех евреев, которые оказались в оккупации. И все-таки сегодня еще живы люди, которые тогда были детьми, но помнят, как это происходило.
Активистке Общества евреев – бывших узников гетто и концлагерей Людмиле Федоровне Бонюшко было всего четыре года, когда в Минск, где она жила с родителями и семилетним братом, вошли немцы. Она помнит, как играла с другими детьми в песочнице, как вдруг появился низко летящий самолет и стал стрелять прямо по детской площадке.
– Мама у меня была еврейка. Мы жили в Минске, который был оккупирован в 1941-м, освободили его 4 июля 1944 года. Отец был ведущим инженером-строителем в Белорусском военном округе, у него была бронь, поэтому он не ушел на фронт. Мама тоже была инженером-строителем. От немцев папа скрыл, что он инженер, сказал, что рабочий. Он украинец, и его сразу взяли на работу, на разборку разрушенных домов – есть-то надо было что-то все эти три года. Нам повезло, что он остался с нами – иначе и я, и мама, и брат – все мы попали бы в гетто. Мое первое воспоминание – это немецкий самолет над песочницей, который нас обстрелял, мама сразу вышла и унесла меня. А потом я помню, как мы шли по дороге с беженцами в сторону Москвы. Вернее, я не шла – меня посадили на какую-то подводу, и я ехала. Папа мне потом рассказал, что мы прошли 40 километров и заночевали. Он говорит: "Я проснулся, пошел за водой, слышу треск – это автомобилисты, передовой отряд немцев, они никого не хватали и не арестовывали". Но тогда никто еще не знал, что немцы уничтожают евреев, это же было самое начало, июнь 1941-го. Мама свободно говорила на идиш, а это же почти немецкий, и она заговорила с немцем. И он ее спросил" "Юде?" Он так это сказал, что ей стало страшно, и она ответила: "Русская". И отец это услышал. Он сказал: "Ты больше никогда с немцем не разговаривай". Ее отпустили, но всю колонну завернули назад, и когда мы вернулись в свою квартиру, везде уже висели объявления, что все евреи должны пройти регистрацию. Но отец уже знал от соседей, что все, кто регистрировался, попадали в гетто, и он сказал маме: "Никуда не ходи". Внешность у нее была не типичная, и она сидела дома, а один раз вышла на рынок и попала в облаву. Тогда папе удалось ее выкупить у полицая за какие-то золотые вещи, и после этого он порвал и сжег ее паспорт. А их дипломы положил в банку и зарыл рядом с домом, и немцы их не нашли.
Отец поднял половицы, выкопал погреб прямо в комнате и спустил туда лестницу, чтобы мы могли там прятаться
Минск почти весь сгорел, а мы жили на окраине, и в этом поселке все знали маму, было страшно – кто-нибудь мог выдать, что она еврейка. Она же ничего не скрывала, до войны ведь антисемитизма не было, это уже после войны появился махровый антисемитизм. Так что мы переехали на другой конец города, сам переезд я не помню, а вот наш небольшой деревянный дом помню хорошо. Отец поднял половицы, выкопал погреб прямо в комнате и спустил туда лестницу, чтобы мы могли там прятаться. Нам принадлежала только одна эта комната, во второй жила соседка, которая мечтала заполучить и нашу комнату. Она вычислила маму и однажды вечером, когда папа меня выпустил из погреба, она меня спросила "Твоя мама еврейка?" А я и не знала ничего, мне никто ничего не сказал, я испугалась и заплакала. Потом эта соседка написала на маму донос – и маму арестовали. А у нас был обыск. Конечно, нас с братом посадили в подвал, и так нам было страшно – как немцы там грохотали, искали документы. А маме опять повезло: немец сказал, что если отец найдет трех свидетелей, которые подтвердят, что она не еврейка, ее отпустят. И такие свидетели нашлись, они подтвердили: рискуя жизнью, спасли маму от гетто, а отца от расстрела. Помню, отец уйдет на работу, а мы сидим и все время в окно смотрим, не идет ли кто. Если идут немцы или полицаи, мы сразу же спускались в погреб, а дверь оставляли открытой, потому что иначе все равно выломают. Помню, как было страшно, когда они ходят наверху, все переворачивают, ищут документы, ищут евреев, ищут пленных – там рядом был лагерь военнопленных, и многие убегали с помощью партизан. Но у нас так ничего и не нашли. Очень много мы в этом погребе просидели – почти все три года. Еда была плохая, да я и не ела почти ничего, очень худая была, и после освобождения у меня сразу начался туберкулез, я едва выжила.
– А как освободили Минск, помните?
– Конечно, помню, как немцы драпали, такая радость была. Потом к нам приехала мамина младшая сестра Дуся – помню, как она входит во двор и спрашивает: "Мила, это ты?" Она была красивая, ей было лет 17 тогда, коса спереди висела. Маминых родителей, бабушку и дедушку, сожгли в Одессе. Их выдала соседка, они попали в гетто – там людей гнали через весь город, потом загнали в большие сельскохозяйственные ангары, облили бензином и сожгли, сейчас там стоит памятник. А мамина сестра жила с родителями в Одессе, и она выжила только потому, что когда к ним домой пришли немцы, она была у подруги. Уже вышла во двор, чтобы идти домой, и тут выбегает сын дворника и говорит: "У тебя дома румыны сидят, твоих родителей уже арестовали, тебя поджидают". И дворник ее у себя спрятал, и она осталась жива. Я этого дворника знаю, его сын потом стал доктором наук.
Маму арестовали уже наши, все допытывались, почему это она, еврейка, не была в гетто
У мамы была большая еврейская семья, еще один ее брат тоже погиб, а другой брат был офицер, воевал, закончил войну полковником. После войны маму арестовали уже наши, все допытывались, почему это она, еврейка, не была в гетто. Восемь месяцев ее продержали. Я помню, как мы жили без мамы, как ждали ее. Папу тоже арестовали за то, что он работал при немцах, – мы тогда остались с маминой сестрой, иначе бы нас отправили в детдом. Но все-таки его отпустили месяца через 3–4, потому что он был всего лишь рабочим и должен был кормить семью, выхода у него не было. А маму все держали, и только когда приехал ее брат-офицер, он помог ее освободить, а если бы не он, я не знаю, чем бы это кончилось. Я помню, как я плакала, как скучала без нее, и вот однажды смотрю в окно – и мама идет, худющая, волосы развеваются, уже седые, хоть ей было тогда лет 35. И я подумала: "Неужели это мама, какое счастье!" Так что им так досталось, бедным моим родителям!
Льву Эммануиловичу Курману 88 лет, когда началась война, ему было девять. Его семья, жившая на Украине в Винницкой области недалеко от Могилева-Подольского, попала в гетто и испытала все, что выпадало на долю тех, кто там оказывался.
– Было очень страшно. В первую ночь мы забрались на чердак и забрали с собой лестницу – рассчитывали, что немцы не поднимутся наверх без лестницы. Проснулся я от криков. В стенах были щели, через них была видна река Мурафа, приток Днестра, и мост метра 3–4 высотой, а внизу были камни. И я увидел, как немцы тащат за бороды стариков-евреев и сбрасывают их на эти камни, так что люди разбивались. Если кто-то оставался жив, внизу стояли автоматчики и достреливали их. Мы жили в маленьком районном центре Черневцы, в 30 километрах от Могилева-Подольского, там вокруг украинские села, и среди них жили евреи, выращивали виноград, торговали вином, работали сапожниками, портными. Немцы собирали местное население и спрашивали: "Что нам делать с евреями?" И люди в основном отвечали: "Кончайте их!" Потом немцы пришли к нам и тоже собрали местных жителей и спросили: "Что нам делать с этими евреями?" Но большинство сказало: "Пусть живут, они нам не мешают". А немцы представляли дело так, будто они выполняют волю населения, и поэтому они ушли. Но после того, как они ушли, нас согнали в гетто.
Первое время мертвецы могли лежать неделями, только потом спохватились и стали вывозить их за город – боялись эпидемии
Река Мурафа делает такой резкий поворот, а потом возвращается, и там, в этой петле, был поселок – вот там и устроили гетто, откуда нельзя было выходить, выход карался смертью. Нас выгоняли на работы в основном сельскохозяйственные, тогда давали что-то вроде похлебки. Отец был инвалидом второй группы, ему было уже 42 года, поэтому он был не на фронте. До войны он работал провизором в аптеке, и иногда к нам пробирались его бывшие сослуживцы, приносили кое-какие продукты. Но в основном первое время меняли вещи на продукты, которые приносили крестьяне. Из нашей квартиры нас выгнали, в гетто нам досталось полуподвальное помещение, где жили мама, папа, я и бабушка, мамина мама. Еще у меня был брат, старше меня на 10 лет, он окончил 1-й курс Киевского медицинского института и приехал к нам на каникулы, а тут война, и его сразу направили в военное училище, после которого он попал на Волховский фронт, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а погиб в 1943-м на Синявинских высотах. Ну, а мы оказались в гетто. Все время хотелось есть, мама как-то крутилась, не знаю, где она вообще доставала продукты. Люди голодали, умирали, а хоронить их сразу не разрешали, все зависело от коменданта гетто. Первое время мертвецы могли лежать неделями, только потом спохватились и стали вывозить их за город – боялись эпидемии. Чем меньше оставалось вещей, тем меньше мы могли обменять на продукты. И еще постоянно шли избиения и грабежи, немцы этим занимались, но больше, если честно, местное население. И днем, и ночью могли ворваться, все перевернуть, все взять, что хотели. Нас тоже грабили, конечно.
– И так продолжалось до освобождения?
– Потом режим чуть смягчился – когда эту часть Винницкой области немцы передали румынам, которые относились мягче, но распоряжение было отдано такое: не надо убивать, надо создавать такие условия, чтобы люди сами умирали. Но все равно расстрелы продолжались. Нас, например, несколько раз выводили из гетто в поле на расстрел, напротив нас становились пулеметчики и ждали распоряжения. Приходил начальник гетто, считал нас по спискам и потом говорил: "Загнать обратно по баракам". И так было несколько раз. Я помню, как я стоял там, в этом поле, и держался за мамину юбку. Бабушка, мамина мама, потом умерла. Жили мы очень тесно, по 8–10 человек в комнате, а потом стали пригонять евреев из Молдавии и тоже селить к нам, тут уж стало совсем невмоготу. Причем к молдавским евреям румыны относились хуже, чем к нам, местным. У нас же граница с Румынией была недалеко, по Днестру, и когда в 1940 году Молдавию присоединили к СССР, местное еврейское население очень радостно встречало Красную армию, и теперь румыны им мстили. В нашем гетто не было никакого асфальта, сплошной чернозем, после дождя он превращался в вязкую грязь: поставишь ногу – и не вытащить. А руководитель гетто часто ездил к своему начальству на автомобиле – и легковушка застревала в этом бездорожье. А это же была черта оседлости, евреев там было очень много, и испокон веку там было большое еврейское кладбище – еще с той поры, когда эта местность была в составе Османской империи. И нас выгоняли на это кладбище и заставляли вручную тащить надгробные плиты – мостить дорогу. И детей тоже выгоняли, мне потом из-за этого оперировали две паховые грыжи. Немножко легче нам стало после победы под Сталинградом – Красная армия разбила там большую румынскую армию, и это сразу на нас сказалось. Я помню, как один румынский офицер говорил: "Могу сказать, что советский рубль останется советским рублем". Он сразу все понял. Но мы-то не знали ничего – ни что под Сталинградом происходило, ни что под Курском, мы были абсолютно изолированы от внешнего мира, могли только о чем-то догадываться.
– А местное население не пыталось вам как-то помочь?
Когда нас освободили, я был скелет в полном смысле этого слова, весил 30 килограммов
– Только фельдшеры, сослуживцы отца, про которых я говорил, да и то со страхом – не столько румын они боялись, сколько местных полицаев, которые могли их избить и все что угодно сделать. Но все-таки они прорывались и иногда, если их попросить, могли вместе с продуктами принести кое-какие медикаменты. А так никакой медицинской помощи, конечно, не было. Когда нас освободили, я был скелет в полном смысле этого слова, весил 30 килограммов. И тут кто-то закричал: "Ребята, горох привезли!" И хоть бы нас кто-нибудь предупредил, что сразу наедаться нельзя – нет, мы на этот горох набросились, и очень многие потом страдали. Освободили нас танкисты – танковая армия Рыбалко сделала прорыв, и однажды утром мы увидели наши танки. Полицаи даже не успели убежать, их, конечно, пленили, а потом судили. Тем, на чьих руках была кровь, давали "вышку", тем, кто в расстрелах не участвовал, – 25 лет.
Лев Курман прожил в гетто с июля 1941-го по март 1944 года, в 1950 году окончил школу с серебряной медалью, что давало право поступать в вуз без экзаменов. Он хотел стать врачом, но объехал все медицинские вузы Украины, и его нигде не брали под предлогом, что все места для медалистов уже закончились, а иногда вообще не брали документов. Спрашивали: а почему вы остались живы? Вы что, сотрудничали с нацистами? И только двоюродный брат, фронтовик, участник Сталинградской битвы, живший в Ленинграде, надев свои боевые награды, отправился к ректору 1-го Медицинского института и добился, чтобы Льва туда приняли. Лев Эммануилович его успешно окончил и всю жизнь проработал врачом. Все остальные члены его большой семьи, жившие в Каменец-Подольской области, Шепетовке и других местах, погибли в Холокосте.