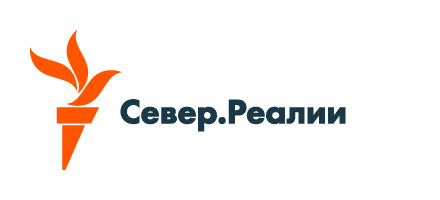В 1990 году в двух номерах "Литературной газеты" была опубликована статья известного математика, философа и богослова Сергея Хоружего, посвященная высылке из Советской России оппозиционных представителей интеллектуальной элиты, знаменитых философов, писателей, публицистов и ученых. Именно тогда возникло словосочетание "философский пароход", ставшее символом первой расправы со свободомыслящей российской интеллигенцией. Север.Реалии продолжают рассказывать о судьбах пассажиров "философского парохода", высланных из СССР в 1922 году.
Александр Угримов был депортирован дважды: сначала из Советского Союза в Германию, а спустя четверть века – из Франции в СССР. Во время Второй мировой войны он участвовал в движении Сопротивления, потом прошел воркутинские лагеря, подружился и рассорился с Александром Солженицыном, а главное, успел оставить воспоминания, в которых описал крутой маршрут своей жизни.
Отправление
От громадины отделялась, отчаливала и уплывала мелкая щепка.
Небольшой пароходик уносил несколько десятков пассажиров прочь из огромной страны.
Щепка шла в Щетин, прусский портовый город, где когда-то родилась будущая императрица Екатерина II, покровительница российского дворянства, искусств и наук. Почти все, что от этого осталось, по приказу Ленина теперь отсылалось обратно, с "билетом в один конец".
Мерно работали машины корабля. Вечерело, погода стояла превосходная, и ничто не мешало огромному лунному диску внимательно созерцать прогуливавшихся по палубе пассажиров. Они стояли по одиночке и парами, иногда собирались в небольшие компании – и страстно обсуждали будущее и прошлое России. Но луне, конечно, это было смешно. Она прекрасно знала, что будущее и прошлое всегда одно: расти, стареть, исчезать, возрождаться.
На корабле плыли известные философы и ученые. Был там даже знаменитый астроном. Но никто из них, заслуживших славу, почет и проклятие изгнания, не мог понять эту магическую формулу лунного диска. Человеческая жизнь слишком коротка для повторений, ее едва хватает на полпути, от рождения до смерти.
И тогда луна выбрала одного, самого безвестного и молодого, чтобы подарить ему вторую судьбу, вторую родину и второе изгнание.
Скауты, стрельба по мухоморам и электрический плуг
16-летний Саша Угримов, сын известного русского агронома, президента Московского сельскохозяйственного общества Александра Угримова, отправлялся в тот день на чужбину вместе с отцом, которого советская власть депортировала за участие в Комитете помощи голодающему Поволжью (ПОМГОЛ). Это, конечно, было в логике советских властей: во время неурожая избавляться от агрономов. Впрочем, из ПОМГОЛа, который стал для Советов "костью в горле", не пощадили никого – и счастье еще, что не расстреляли. Но расставание с Россией было ошеломляющим и для сына, и для отца.
Еще недавно жизнь этой обедневшей дворянской семьи складывалась почти удачно – с поправкой на ветер перемен. Отец после революции продолжал заниматься любимым делом, он не только выводил новые сорта пшеницы, но даже участвовал в разработке плана ГОЭРЛО (Всесоюзной электрификации) для сельского хозяйства СССР, и сам Ленин, питавший ко всему электрическому какую-то болезненную революционную страсть, однажды с восхищением созерцал электрический плуг, который Угримов демонстрировал вождю революции.
Это был недолгий период, когда новая власть и старая техническая интеллигенция кое-как терпели друг друга – за неимением лучшего. Но обе стороны по-своему хитрили. Угримовы, чтобы их дом не "уплотняли" рабочими и кухарками, поселили в свободные комнаты друзей и знакомых – профессоров и преподавателей. Там среди прочих жили знаменитый пианист Игумнов и автор толкового словаря лингвист Ушаков, так что в доме образовалось нечто вроде "профессорской коммуны". Летом голодного 1918 года, чтобы ее прокормить, отец организовал небольшую артель под Москвой, где профессора и их дети старательно трудились в поле, выращивая и собирая урожай. Но через год "коммуна" закончилась: Угримова назначили заведующим хозяйством МОСХа в подмосковном Хлебникове – и отправили прочь из столицы.
Саше тогда едва исполнилось 13 лет, но степень его самостоятельности по нынешним меркам выглядит почти фантастической. "Тепличный" ребенок из дворянской семьи, воспитывавшийся английской гувернанткой и учившийся в одной из лучших частных московских гимназий, он полностью преобразился, когда в 1918 году вступил в скаутский отряд.
Это был едва ли не важнейший момент его биографии, поэтому о скаутском движении в России тут надо сказать подробней. Буквально через несколько лет после того, как его родоначальник, англичанин Роберт Баден-Пауэлл, готовивший юных резервистов для армии, опубликовал книгу "Юный разведчик" и начал формировать первые скаутские отряды в Британии, перевод книги вышел в Петербурге. Конечно, сегодня, спустя сто лет, эта книга и ее идеи выглядят немного архаичными. В той же Америке, где скауты до сих пор "в моде", кто только не посмеивается над ними и их романтикой (гитары, палатки, игра в следопытов с разглядыванием мха на деревьях). Но в начале минувшего столетия скаутское движение мхом еще не поросло.
В России продолжался разгул преступности, и "патрули" подростков на велосипедах несли вечерами дежурства на особенно тревожных городских улицах
И даже напротив. С 1909 года и до революции оно стремительно набирало силу в России (как, впрочем, и в Европе, и в Америке), и к началу 20-х годов в нем участвовало более 50 тысяч человек. В основном туда попадали дети из богатых семей, которым отряды и палаточные лагеря могли дать то, чего не давали гимназии и домашнее воспитание: физическую закалку, навыки самостоятельности и находчивости, желание и привычку совершать добрые поступки и, главное, благородные идеалы стойкости, взаимовыручки, умение ценить товарищей и чувствовать себя в одной команде с ними. Все это позднее попыталась присвоить себе советская власть, уничтожившая скаутов и превратившая их движение в формальное "пионерское", наполнив его идеологией и перекрасив галстуки из оранжевого в красный цвет. Но это случилось лишь в 1922 году, а в первые годы после революции скауты были вполне дозволенной организацией, до которой у большевиков просто не доходили руки…
Итак, 1918 год, скауты, московский отряд "Рысь". Одно из его звеньев ("патрулей"), в котором состоял 13-летний Саша, по его призыву практически в полном составе все лето проработало на полях и в огородах угримовской артели под Пушкино, и… решило не уезжать. Ребята задержались в усадьбе до глубокой осени. Они жили без всякого присмотра взрослых в старинном обветшавшем доме, сами себе готовили еду, топили печи, ремонтировали по мелочи все, что ломалось. Раскладывали по мешкам картошку и отвозили ее в Москву, подкармливая не только своих родителей и их постояльцев, но и другие голодающие семьи. Потом была еще одна скаутская коммуна в городе, и еще одна в Подмосковье… В 1919 году, когда Саше исполнилось 14, скаутам (тем, кто постарше) почти официально стали выдавать оружие – плохонькие пистолеты и винтовки. В России продолжался разгул преступности, и "патрули" подростков на велосипедах ("самокатчики", как их называли) несли вечерами дежурства на особенно тревожных городских улицах. А в свободное от дежурств время они доверяли оружие младшим товарищам, так что Саша научился довольно сносно стрелять. Впрочем, в те времена оружие было у многих, даже у вполне интеллигентных профессоров, и агроном Угримов тоже держал тайком на чердаке в своем домике в Хлебникове (не самое спокойное место) пару револьверов, плюс почти безобидное, но все-таки выглядевшее грозно фамильное оружие – старинные дуэльные пистолеты. Уже летом 1922 года, незадолго до высылки, предполагая обыски и арест, отец попросил Сашу незаметно вывезти все это и спрятать куда-нибудь подальше. Тот, разумеется, отвез пистолеты в свою скаутскую колонию, где они вызвали полный восторг. "Порох можно было купить на рынке, и мы иной раз в лесу устраивали канонаду по мухоморам и поганкам. До сих пор удивляюсь, как все это безнаказанно сходило с рук", – вспоминал он позднее.
За два года, совмещая скаутскую жизнь с учебой в гимназии, Саша полностью преобразился. Он возмужал, научился ездить на лошади, создавать и находить тайники (что не раз пригодилось позднее), и, главное, его характер, и без того прямодушный, приобрел черты бескомпромиссной честности и решительности.
Именно такими – смелыми, ловкими, прямодушными, с навыками меткой стрельбы – хотела видеть своих подданных советская власть. Но вот беда: как раз к советской власти юный Александр Угримов, как и его отец, относился с брезгливым отвращением.
Революцию он, конечно, видел в очень нежном возрасте, зато рос вместе с ее последствиями и полагал, что большевики толкают страну в пропасть. Больше всего его возмущало, что мыслящие люди, среди которых он жил, оставались пассивными наблюдателями, когда, по его мнению, надо было выходить на баррикады…
Ну что тут скажешь? Пожалуй, с таким характером и пониманием ситуации прожить в начале 20-х годов в Советской России можно было совсем недолго. Года два-три, не больше. И, возможно, высылка семьи оказалась для Саши первым счастливым билетом, который предложила заботливая судьба.
Нельзя бить морду немцу на корабле в открытом море…
Все произошло быстро и как-то почти буднично. В августе начались аресты и пошли слухи о высылке за границу всех, кто связан с ПОМГОЛом. Отца должны были арестовать 18 августа, но за него вступился старший брат, заместитель председателя комиссии ГОЭРЛО, и все ограничилось визитом в ГПУ, где Александр Иванович с удивлением узнал, что он, как "нежелательный элемент", внесен в список на отправку в Германию. Его даже не уволили ни с одной из должностей, а просто предложили собрать вещи и купить для себя и семьи билеты на поезд в Петроград, откуда в конце сентября отходил пароход в Щетин. Они отправлялись туда без всякой охраны, как простые путешественники.
"Холодное Балтийское море было красиво под осенним солнцем… Помню в баре Михаила Андреевича Осоргина, с кривой усмешкой вступившего в новый цикл изгнания, после уже солидного стажа политической борьбы за "счастливое будущее" России, которая никак не шла по светлому пути, уготованному ей всезнающей интеллигенцией, – с печальной иронией вспоминал о дне расставания с Россией Александр Александрович. – По палубе разгуливали Бердяев с женой и свояченицей; Ильин, белокурый Мефистофель, как раз такой, каким его живописал Нестеров; глубокомысленный Франк, окруженный своими "сантимами", как прозвали его детвору, и все прочие... Кто-то из молодых, знавших немецкий язык, разговорился с капитаном. Но вот он выскочил от него, как ошпаренный. Оказалось, капитан спросил, рад ли он покинуть эту страну баранов (Schafenland)? Этим он оскорбил всех нас – русских! Наше национальное сознание было глубоко уязвлено. Но нельзя же "бить морду" немцу на его корабле в открытом море! Пришлось оскорбление проглотить. Вот и поняли мы сразу, что покинули свою Родину и находимся уже в Германии. Этот "шок" я запомнил навсегда".
В отличие от многих других изгнанников, отец Саши вскоре после прибытия в Германию легко нашел свое место. Для СССР "нежелательный элемент", оказавшийся в Берлине, вдруг стал очень желательным, даже необходимым, ведь большая часть сельскохозяйственной техники для Советского Союза закупалась именно у немцев. Опытный ученый-агроном был тут настоящим подарком судьбы, и вскоре Александра Ивановича пригласили на работу в берлинском отделении Центросоюза. О его высылке старались не вспоминать, и до сих пор во многих энциклопедиях указывается, будто бы в 1922 году он "был отправлен в командировку в Германию". Но все-таки в этой "командировке" был небольшой нюанс – угроза расстрела в случае самовольного возвращения…
Семья поселилась в пригороде Берлина, где Александр откровенно скучал. И сама Германия, и немцы, и русская эмигрантская среда производили на него гнетущее впечатление. Год он тосковал по России, с нетерпением ждал писем с родины, учил немецкий, "догонял" сверстников в гимназии… Но постепенно появились новые друзья, с которыми они "начали осваивать Берлин и узнали ту его сторону, которую так великолепно и совершенно по-разному описали, с одной стороны, Набоков, а с другой – Ремарк (в лучшей своей книге "Три товарища")". В 1925 году Александр сдал наконец экзамен на аттестат зрелости и поступил на курсы Школы сельского хозяйства и пивоварения в небольшом городке неподалеку от Мюнхена. Местечко было куда более скучное, чем Берлин, но оно казалось Саше по-своему романтичным: жители разговаривали на грубоватом баварском диалекте, школа располагалась в здании монастыря, а окна его мансарды выходили прямо на башню собора. Все равно выдержать там три года было непросто – зато диплом агронома, который увенчал эту терпеливую жертву в 1929 году, открывал дорогу к самостоятельной жизни, к независимости от родителей. И дорога эта неожиданно привела в Париж.
Младороссы, Геринг и ГПУ
В Париж Угримов в первый раз попал почти случайно, отправившись туда на свадьбу своего друга. Уже на вокзале он почувствовал, что после Германии находится на другой планете: ни следа немецкой чопорности, по-настоящему живой город! Проведя в нем несколько дней, Саша уже ощущал Францию единственной (после России) страной, где ему хочется жить.
"Приезд в Париж был переломным этапом. Я сразу понял, что мое место теперь во Франции, а мысль о том, чтобы возвратиться в Германию и там, на чужой, нелюбимой мною земле (именно земле, в буквальном смысле слова) приложить свою агрономическую профессию, стала мне глубоко отвратительной. Но в самой Франции работать агрономом по тогдашним временам и речи быть не могло…". Впрочем, он был готов работать даже в любой французской колонии в Северной Африке, чтобы только связать жизнь с Францией – но на такие жертвы идти не пришлось. Помогли рекомендательные письма от немецких профессоров, у которых Саша учился под Мюнхеном, и вскоре он устроился лаборантом в парижский институт мукомольной и зерновой промышленности. Работа с мукой и мельницами внезапно увлекла его, показалась осмысленной и достойной. "Эта профессия, которую я полюбил, неотъемлемо скрепила меня с Францией, с ее природным древним богатством – с мукой и хлебом – самыми благородными субстанциями человеческой жизни", – писал он позднее.
Но главное, теперь он жил в столице Франции – и сам зарабатывал себе на жизнь!
Здесь, в Париже, связь со всем, что происходит в России, ощущалась куда интенсивнее, чем в Германии, и эмигрантская среда буквально кипела, рождая в своих недрах кружки, общества, споры и скандалы, производя в немыслимых количествах разнообразные идеи и проекты. Одним из таких проектов, привлекших внимание Александра, было движение "младороссов". Это, по сути, была социал-монархическая партия, которая поддерживала великого князя Кирилла как претендента на русский престол, но одновременно симпатизировала и фашизму, и советскому строю, предлагая какой-то сложный, но идеальный коктейль для их соединения в единое целое. "Царь и Советы!" – таков был несколько сумасшедший лозунг младороссов, к которым, помимо нескольких казачьих кружков, примыкали почему-то Молодёжный спортивный союз и Ассоциация русских ассирийцев. Но при всем своем безумии это движение по своей атмосфере (синие форменные рубашки, клятвы в верности, ритуальные приветствия) живо напомнило Александру скаутские отряды, и он не только с энтузиазмом влился в его ряды, но даже возглавил одно из парижских подразделений.
Борис сразу раскрыл все карты – и признался, что работает на ГПУ
В политике младороссы были редким, вымирающим видом – на всю Европу их едва набиралось несколько тысяч человек, но тем ценнее они были для сотрудников советской разведки. Еще бы! Ведь это был тот тип эмигрантов, которые оставались патриотами России независимо от того, кому теперь принадлежала в стране власть, и не шарахались от "советских", а напротив, весьма охотно шли с ними на контакт. Поэтому вскоре в жизни Александра и его друзей по партии появился обаятельный, умный и откровенный собеседник – Борис из советского торгпредства, с которым особенно приятно было вечерами посидеть в бистро.
В ответ на предупреждение Александра о том, что он не собирается предавать интересы Французской республики, Борис сразу раскрыл все карты – и признался, что работает на ГПУ, однако не собирается никого вербовать, а просто хочет узнать, как и чем живут русские люди на чужбине, что они думают о Европе, СССР и фашистской Германии. Вскоре эти беседы стали регулярными, они явно доставляли немалое удовольствие обеим сторонам. Ведь, оставаясь все таким же убежденным противником коммунизма, Александр, как и многие эмигранты, продолжал живо интересоваться всем происходящим на родине – и Борис сполна удовлетворял его любопытство, не обходя даже столь острые темы, как сталинские репрессии. В конце концов, ему тоже требовался собеседник, который наверняка не предаст – и в Угримове, сразу почувствовав его характер, он видел именно такого человека. Так между ними завязалась плотная дружба, в которой каждый мог ничего не опасаться. "В конце концов, – думал Александр, – какие секреты он может выведать у специалиста по мукомольному производству?"
Правда, спустя много лет, уже в середине 70-х годов, когда после долгой разлуки глубокими стариками они вновь встретились в Москве распить "по рюмочке", Борис признался своему давнему другу, что кой-какую важную информацию ему получить удалось. Оказывается, один из Сашиных друзей младороссов работал в те годы на авиационном заводе и через него Борис получил схему убирающегося шасси для самолетов-истребителей, которая очень помогла советским авиаконструкторам.
Но это все было потом…
А пока – жизнь шла своим чередом. В 1932 году Александр женился на актрисе Ирине Муравьевой, а в 1934-м у них родилась дочь Татьяна. В Германии поднимал голову фашизм, и раз за разом приезжая туда в командировки и чтобы навестить отца, Саша видел стремительные перемены. Теперь, по его выражению, он ощущал себя в Германии "как во вражеском стане". Но любопытство подталкивало своими глазами посмотреть, что и почему происходит с целой нацией – и так однажды он оказался на публичном выступлении Геббельса:
"…Наконец появился, прихрамывая, щупленький юркий Геббельс, и вся толпа завыла: "Хайль! Зиг!" Кажется, еще и пели что-то. Геббельс дал знак садиться и начал говорить. Это было пространное выступление самого вульгарнейшего порядка, с анекдотами и шутками, с употреблением грубейших выражений и жестов под вкус публики, которая шумно выражала свое одобрение… Немцы пьянели от чувства своей мощи, и комплекс их неполноценности превращался в свирепую лютость и безмерное высокомерие, в звериный шовинизм. Толпа бурно рукоплескала умной и хитрой обезьяне. Да, это была хорошая настройка немецких мозгов".
То, что война неизбежна, было теперь для него абсолютно очевидно, но во Франции продолжало царить беспечное благодушие. Чувствуя себя в безопасности под защитой "лучшей армии в Европе", французы лишь посмеивались над немцами. Куда больше их волновали свои повседневные дела.
Были они и у Александра. К 1938 году он уже сделал серьезную научную карьеру, получив звание адъюнкт-профессора Высшей мукомольной школы, и научная деятельность занимала массу времени. Кроме того, нужно было заботиться о семье, а когда летом того же года из фашистской Германии во Францию был выслан отец, пришлось устраивать его преподавателем в мукомольной школе. Младороссы "сошли на нет", а ближе к концу 30-х годов исчез с горизонта и Борис.
В одну из последних их встреч, обсуждая войну в Испании, он поставил перед своими французскими друзьями вопрос ребром: на чьей стороне они будут, если Советский Союз окажется втянут в войну?
– Если Франция будет с нами воевать, прямо или косвенно, тогда что вы будете делать, патриоты?
Разозлившись, Александр выдрал страницу из блокнота и написал на ней:
"Мы против коммунизма и диктатуры ВКП(б) в России. Но если случится война, то я и мои друзья будем на стороне советской власти бороться против врагов России и будем стараться, где бы мы ни находились, сделать все возможное для победы".
– Вот, возьми и передай, куда сочтешь нужным.
– А ты не боишься такую бумажку мне давать?
– Нет, не боюсь. Делай с ней что хочешь.
Самолеты от Де Голля и оружие на мельнице
В середине мая 1940 года немецкие войска стремительно вторглись во Францию, и уже 22 июня была подписана капитуляция, после которой две трети страны оказалось оккупировано немцами. Относительно свободным (под властью сотрудничавшего с оккупантами правительства Виши) оставался только юг страны, в том числе местечко Шабри в долине Луары, куда вскоре переселились старшие Угримовы. Александр хотел остаться в Париже, но оккупационные власти потребовали его увольнения из института, и ему вместе с семьей пришлось искать новое пристанище. Они нашли его на кооперативной мельнице в городке Дурдане под Парижем, где Саша на время устроился начальником производства.
Остатки разбитых и рассеянных французских частей еще уходили по дорогам, бросая оружие. Александр подбирал винтовки и револьверы, которые прятал в мельничных подвалах. Он хотел сражаться с оккупантами – и эта решимость многократно в нем укрепилась после нападения Германии на СССР. И не только у него. После 22 июня 1941 года то же самое чувствовали многие русские эмигранты во Франции.
Мельница оказалась отличным "прикрытием", чтобы создать здесь базу подпольщиков: в старых подвалах для муки можно было надежно прятать не только оружие, но и людей, а поток посетителей и подвод не вызывал у немцев никаких подозрений (и, конечно, скаутские навыки, которые Саша получил в юности, были теперь как нельзя кстати). Уже в 1941 году вокруг Угримовых сплотилась небольшая, человек в 20, группа друзей и знакомых, русских и французов, готовых сражаться с оккупантами. Они переправляли на мельницу бежавших из лагерей военнопленных и сбитых английских летчиков, делали фальшивые документы для уклонявшихся от отправки на работы в Германию парижан, пополняли запасы оружия и боеприпасов… В этой рискованной работе активно участвовали и Сашина супруга Ирина, и даже их маленькая дочь Таня, которая умела хранить тайны надежнее многих взрослых.
В 1943 году после многих безуспешных попыток наконец удалось связаться с ячейкой "Сопротивления", располагавшегося в местной авторемонтной мастерской, и тогда партизанская деятельность приобрела новый размах. Готовилась высадка союзников в Нормандии, и генерал Де Голь делал ставку на восстание французов по всей оккупированной территории, поэтому из Лондона начались тайные поставки оружия, которые "Дурданская группа" должна была регулярно принимать.
Каждый вечер в эфире английского радио звучали кодовые фразы, каждая из которых соответствовала одному из квадратов, куда предполагалось сбрасывать ящики с оружием на парашютах. Услышав условленные слова и дождавшись сумерек, группа на нескольких автомобилях (грузовиках для перевозки муки – другие группы "Сопротивления" использовали санитарные и даже пожарные машины) выезжала на место, чаще всего в один из пригородов Парижа, где буквально под носом у немцев разводила сигнальные костры и ожидала прилета самолетов. Впрочем, о серьезной конспирации часто не могло быть и речи: порой сообщение о доставке очередной партии приходило буквально за час или два до прибытия грузов, и все приходилось делать в спешке. Поэтому потери участников группы были вполне военные: многих хватали немецкие патрули, многие гибли в перестрелках, были расстреляны или нашли свою смерть в концлагерях.
К этому моменту Александр Угримов уже был полноправным руководителем "Дурданской ячейки", которая вошла в сеть FFC (Боевых французских частей) под командованием Де Голля. Однако, давая свое согласие воевать под флагом Франции, он и другие русские участники группы сделали важное уточнение – в духе записки, которую он передал Борису за два года до оккупации:
"Как русские, мы вступаем в FFC для совместной борьбы под французским командованием с гитлеровской Германией – вплоть до момента, когда мы сможем установить непосредственную связь с командованием советскими вооруженными силами, чтобы не быть вовлеченными в действия, не соответствующие политике нашей страны".
Когда летом 1944 года передовые части американцев начали наступление в сторону Парижа, подполье перешло к активным действиям. Главной задачей был сбор разведданных и передача их наступающим частям союзников.
Чувство приближающейся победы пьянило – и заставляло разведчиков забывать о всякой осторожности. Но, впрочем, и немцам теперь было не до них. Вот как сам Угримов вспоминает о такой разведке:
"На мельнице с утра отдыхает немецкая часть, человек пятьдесят. (Днем союзная авиация не дает двигаться). Солдаты разбрелись по парку около речушки. Тут же сидим и мы, наносим на кальку все сведения, которые наши люди приносят из города и округи. Потом калька закладывается в носок, и очередной посыльный отправляется искать американцев. Это помогает им пройти немецкую оборону без потерь… Вечером, после ухода немцев, мы вытаскиваем из-под закромов боеприпасы и тащим их из мельницы в лес к Блюто, где собрались дурданские FFC: французы, бежавшие советские военнопленные, русские эмигранты – всего человек тридцать…"
В пригороды Парижа Угримов и его друзья вошли 20 августа буквально на броне американских танков, прикрывая их от притаившихся в кюветах немцев с "фауст-патронами".
А потом был праздник, вместе с семьями "сопротивленцев" – бурный и веселый, с вином и песнями. И лучше всего, как вспоминает Угримов, звучало "Не смеют крылья черные над родиной летать".
Франция была свободна. И они были свободны. Свободны – выбирать.
Награжденный высокой наградой Франции, Военным крестом, основатель легендарной "Дурданской" группы "Сопротивления", вошедшей позднее во все энциклопедии, Александр теперь мечтал об одном: вернуться в Советскую Россию – страна, победившая фашизм, просто не могла, по его мнению, оставаться прежней, тоталитарной. Она должна была преобразиться в результате этой победы!
Так думали тогда очень многие эмигранты. Повсюду во Франции возникали отделения Союза советских патриотов, где выдавали советские паспорта, и сам Угримов вскоре возглавил одно из них. Кажется, только руку протяни – и ты дома. Что может помешать?
Но мешало несогласие в семье. Ирина, уехавшая из СССР позднее Александра, в 1925 году, и сполна успевшая насмотреться на советскую власть, наотрез отказывалась возвращаться. На нее не действовали никакие уговоры.
– Я самый несчастный человек! – говорил Александр Угримов. – Возможность возвращения на родину так близка, а я не могу вернуться. Но, может быть, все устроится само собой?
И все "устроилось".
История повторяется
Вечером 25 ноября 1947 года, когда он закончил обход мельницы, к дому неожиданно подъехала машина, из которой вышли трое в штатском. Один показал значок сыскной полиции и сообщил, что Угримов задержан. После беглого обыска, во время которого, к счастью, никто не заметил оружия, хранившегося в доме со времен "Сопротивления", они позволили наскоро проститься с дочерью – и поволокли его в машину. В последнюю секунду Александр успел ей шепнуть: "Как только уедем, вынеси осторожно из дому револьвер и винтовку. Револьвер в пружинах кушетки, винтовка в гардеробе. Они могут опять вернуться".
История повторялась почти буквально. Прямо из дома его отправляли на высылку, сперва в Германию, в французскую зону оккупации, а затем в советский сектор. Так поступали со всеми, кто имел отношение к Союзу советских патриотов: холодная война набирала обороты, и французское правительство распорядилось выслать из страны "неблагонадежные элементы", несмотря на их былые заслуги.
Александр еще не знал, что такая же участь постигла его отца, с которым они встретятся очень скоро, на полпути, в Потсдаме. Но в тот день его, видимо, переполняли противоречивые чувства: все-таки он и его друзья по "Союзу…", с которыми вскоре увиделся в пересыльной камере, возвращались на родину. Однако путь туда предстоял неблизкий. Через несколько недель французы передали их американцам, а те – русским, в Бранденбург, где наконец арестантам после долгих допросов предоставили относительную свободу. И все-таки в СССР никто вывозить их не спешил.
Три месяца они находились в Германии, в расположении советских военных частей, где бродили какими-то неприкаянными тенями среди развалин Потсдама и Бранденбурга. Переписывались с семьями, уговаривали, отговаривали, надеялись. Таня рвалась вслед за отцом в Россию, Ирина продолжала колебаться. Наконец неожиданно в конце февраля 1948 года подали состав с промерзшими "теплушками", который, не торопясь, повез на восток советских патриотов. На пункте распределения, где пришлось провести еще несколько недель, двум Александрам, отцу и сыну Угримовым, внезапно, казалось, выпал "счастливый билет" – их направляли "домой", в Москву. О том, что за самовольное возвращение старшему грозит расстрел, никто не вспомнил. Впрочем, какое тут "самовольное"…
Саратовская тюрьма, Лубянка, Лефортово – все происходило примерно так, как это Александру и представлялось
До столицы они добрались в начале апреля – и как раз по дороге Саша узнал, что жена и дочь все-таки решились, едут за ним в Россию. Значит, надо бы найти жилье и работу… В Москве, в Институте зерна? Нет, но там дали распределение в Саратов, директором крупного мукомольного производства.
Он отправился туда немедленно, подыскал квартирку, стремился войти во все тонкости новой работы – и не подозревал, что бумаги на его арест уже готовы и доставлены по назначению.
Они "вошли в силу" 15 июня 1948 года.
"Я проснулся от сдернутого с меня одеяла. "Поднимайтесь, одевайтесь". Надо мной стоял небольшого роста старший, с безразличным лицом чиновника, подалее двое молодых: один здоровенный рыжий (на случай оказания сопротивления), другой серенький, которого я не запомнил. Особого шока я не ощутил – подсознание было подготовлено".
Саратовская тюрьма, Лубянка, Лефортово – все происходило примерно так, как это Александру и представлялось. Удивительнее были допросы, во время которых он пытался понять, чего именно хочет от него следователь, почему расспрашивает о близком Союзу патриотов писателе-эмигранте Вадиме Андрееве, с которым он был едва знаком, и каком-то его брате, Данииле Андрееве? Но постепенно картина прояснялась.
"В двух словах это сводилось к следующему: Даниил Андреев здесь – крупный террорист; Вадим Андреев там – крупный агент американской и английской разведок; а я, также агент, приехал, чтобы установить связь между ними, и для этой цели меня и заслали в СССР под видом высылки".
К тому времени Даниил Андреев уже год находился там же, в Лефортовской тюрьме, где ему начали в видениях являться первые образы "Розы мира" – одной из самых загадочных книг в истории русской литературы. Но, разумеется, Александр ничего о нем не знал и, несмотря на давление следователей, стоял на своем. "Что было – то было, а чего не было – того не было". Допросы, перемежающиеся побоями, продолжались день за днем, неделя за неделей. Угримов знал, что жена должна была уже добраться до Москвы, и пытался узнать о ее участи – на что, посмеиваясь, следователь отвечал "пока на свободе, но если надо, тоже возьмем к себе". На самом деле Ирина давно была в камере, на другом этаже тюрьмы, и допрашивали ее в тех же кабинетах.
Встретились они лишь спустя несколько месяцев, в столыпинском вагоне, когда, получив свои приговоры, отправлялись в лагерь.
"… Там я случайно заметил знакомого. Когда посадка закончилась, мы стали расспрашивать друг друга, когда кого и как отправляли в "воронках" из тюрьмы. Оказалось, что он выехал предыдущим рейсом и что с ним были две женщины.
– Одна была высокая, в синем пальто и в желтых заграничных ботинках. Я обратил внимание на заграничную обувь и подумал даже, не твоя ли жена. И знаешь, они в нашем же вагоне, в переднем женском купе.
Тогда я отчетливо и громко произнес: "Irene! Tu es la? " (Ирина, ты здесь?) – и слушал напряженно. Она ответила".
Ему удалось, проходя под конвоем в туалет, задержаться на мгновение у двери, поймать ее взгляд и переброситься несколькими словами по-французски:
– Саша, сколько тебе дали?
– Десять лет. А тебе?
– Восемь.
Вот и все, что успели они сказать друг другу на много лет вперед, до следующей случайной встречи.
К черту уголь, хотим свободу!
Заполярная Воркута встретила Александра, как и миллионы других зэков, без оглядки на прошлое. За время тюрьмы и этапа он уже понимал: прошлого тут просто нет, каждый заключенный как бы рождается заново, былые заслуги, звания и преступления не в счет. Люди в лагере оцениваются лишь по своему поведению – здесь и сейчас. Но все равно, жизнь каждого зависела только от каприза начальства, от случайности – и умения этой случайностью воспользоваться.
Поэтому, когда за небольшую взятку (пришлось отдать старый поношенный французский костюм) ему предложили не идти работать на угольную шахту, а устроиться на склад, помощником кладовщика, он с радостью согласился. Несколько месяцев выдавал поварам и начальству подмороженную картошку, знакомился с другими заключенными и так благополучно пережил первую, самую трудную, зиму.
Шахту, где добывали уголь, обслуживал "спецлаг" – лагерь, в котором в основном находились "политические" зэки и пленные немцы, так что интересных знакомств случалось немало, но люди появлялись и исчезали – кто-то погибал на шахте, от голода и холода, кого-то переводили в другие лагерные отделения. За первый год Александру довелось побывать и в карцере, и в санчасти, пройти через драки, научиться прятать в подкладке лезвие. Сменилось и множество лагерных работ – от ремонтной бригады до "озеленения территории", на что он, как бывший агроном, в какой-то момент уговорил начальство. Ему было далеко за сорок, но опять, в какой уже раз, помогал скаутский опыт – умение прятать, выживать, строить отношения с людьми, вливаясь в "команду". И все равно, как и большинство зэков, Угримова ждала угольная шахта – "кормилица", как иронически называли ее заключенные.
В 1951 году его отправили вниз, под землю, и поставили на отбраковку угля, – работу не самую тяжелую, но довольно опасную. Каждый день в ржавой клети приходилось спускаться глубоко под землю и проводить там много часов, так что после работы едва хватало времени прийти в себя и поспать. Об Ирине не приходило вестей – известно только было, что она в Инте и, кажется, сумела устроиться художником культбригады. Зато начали приходить письма из Москвы, и он знал, что с дочерью все в порядке, она у дальних родственников, а отца выслали под Ульяновск и он работает там на станции животноводства.
Так шли месяц за месяцем, год за годом. Но в 1953-м, когда умер Сталин, что-то начало меняться – сперва незаметно, а потом со скоростью взрыва. Первым вестником "лагерных перемен" стала знаменитая воркутинская забастовка. Пришедший в "спецлаг" этап из Караганды, 400 человек, отказался идти на работу в шахте и потребовал приезда комиссии ЦК для пересмотра дел – и освобождения. Через несколько дней весь лагерь был практически захвачен заключенными, начальство куда-то исчезло… Работа остановилась. "Колеса лифта не крутились. Некоторое время мимо нас по железной дороге проходили вагонетки с углем, но к концу дня они стали пустыми на три четверти. Внутри каждого вагона мелом русскими буквами было написано: "К черту уголь, хотим свободу!" – вспоминал один из заключенных Воркутлага Джон Нобл.
"Стояли жаркие солнечные дни, лагерь имел праздничный вид, совершенно необычный. Шахтеры с особенным наслаждением голыми лежали на траве и загорали на солнце. Одни играли в волейбол, другие лежа читали, иные группами прогуливались, оживленно разговаривая. Вот над баней опять взвился красный флаг, который надзиратели устали лазить снимать – этот флаг начальству особенно колет глаза. Говорят, вся Воркута бастует, не мы одни…" – вспоминал Угримов.
Но эта вольница продолжалась недолго. Комиссия из Москвы приехала – но совсем не та, какую ожидали. После недолгих переговоров в лагере появились войска. Зачинщиков забастовки схватили и отправили в карцер, а на 29-й шахте, где их пытались выловить из толпы, произошла трагедия. "Рассказывали, что когда выводили, как у нас, за ворота – та ниточка, на которой и у нас все висело, таки оборвалась: кто-то что-то крикнул, кто-то рванулся, в конвой полетели кирпичи, те открыли огонь... и пошло, и пошло". Солдаты расстреляли около 300 человек, восстание было подавлено.
И все-таки через несколько месяцев пошел пересмотр дел, разрешили свидания и наконец начались освобождения. В июле 1954 года к Угримову в лагерь приехали повидаться отец и дочь, а буквально через день после их отъезда, когда он был под землей, по телефонной связи в шахту сообщили, что его требуют к начальству.
– Угримов, вылезай, тебе обходная на освобождение!
Конечно, путь до Москвы опять предстоял неблизкий: сначала Воркута, а потом – поездом из Инты, в сторону столицы. В Инте, уже без конвоя, предстояло оформить документы, но Александру казалось, что все люди теперь ему улыбаются, все участвуют в его судьбе:
– Эй, земляк, освободился, что ль? Если некуда идти, идем ко мне!
– Нет, спасибо!..
Иду эдак бодро и весело и гляжу по сторонам. И вдруг – я уже и удивляться перестал – вижу: по другой стороне улице, по правой, в том же направлении, несколько впереди меня идет Ириша. Перехожу бегом на другую сторону – приближаюсь, сомнений нет: она! Слышу уже ее голос, вижу часть лица при повороте головы. Тогда я подхожу вплотную и говорю: "Ирина!" Она останавливается как вкопанная, но тоже без особого видимого шока: "Господи, ты как здесь?" И так все было просто, естественно, а в то же время как финал в сказке..."
Через месяц они были в Москве.
Биография "в двух словах"
В отделе НКВД (филиал "Большого дома" на Кузнецком), куда Александр и Ирина пришли, чтобы оформить паспорта, им предложили подписать документ, что претензий к чекистам по поводу конфискованных вещей они не имеют. Разумеется, все вещи давно пропали – но за них заплатят компенсацию, как же иначе! Однако за что платить? В списке значилась какая-то ерунда: вместо золотых колец – "кольца желтого металла", вместо драгоценных камней – стекляшки. Были и такие перлы, как "брюки молееденные" и "собачка фарфоровая б/у".
Но им было не до споров – лишь бы скорее уйти из этого места, от этих рож. Получили документы, через родственников оформили московскую прописку, оставалось найти работу. Кто-то посоветовал сходить в НИИ текстильных машин, там как раз требовались переводчики с французского. И правда, Александра, профессионального "технаря" и агронома, в отделе кадров встретили с восторгом. Именно такой специалист нужен!
Но, конечно, была одна проблема.
"– А подойдет ли вам моя биография?
– А что, – насторожились испуганно, – сложная?
– Да, но ее можно в двух словах сказать.
– Ну как же в двух, – удивляются, – ведь вы большую жизнь прожили?
– Тем не менее: я всю жизнь прожил за границей, а остальное время в тюрьме.
– Н-да-а-а, – обмякли оба товарища и головами поникли совсем безнадежно.
– Но может быть, я все же смогу вам помочь? — и улыбаюсь, на них глядя.
– Ну чем же вы поможете, – говорят безутешно, даже обиженно на мою улыбку.
– Вот рекомендация от Глеба Максимильяновича Кржижановского (члена ЦК, старинного друга отца, с которым они еще работали над ГОЭЛРО) – вынимаю бумажку, заранее приготовленную, ибо по опыту знал, что без палочки-выручалочки не прошибу я чур-круга.
Как марионетки, они из обвислых стали бойкими.
– Ну, тогда все. Идемте к директору".
Так началась еще одна работа – переводы, – которой довелось заниматься всю оставшуюся жизнь. Но не только ей.
Солженицын сразу почувствовал в Угримове надежного человека
Спустя 10 лет, в 1966 году, когда и дочь подросла, и московская жизнь окончательно наладилась, случилась еще одна встреча, которая повернула все в новую сторону и еще раз заставила Александра вспомнить скаутскую юность. Это было знакомство с Александром Солженицыным, которое, как часто бывало у Угримова, быстро переросло в близкую дружбу. Их многое роднило: оба прошли лагеря и войну, оба были искренними патриотами и ненавидели власть коммунистических аппаратчиков.
Солженицын сразу почувствовал в Угримове надежного человека, и вскоре тот стал отвечал за хранение рукописей, которые держал у тайных "кротов" (с ними сам Солженицын, по условиям конспирации, знаком не был). Так появилась целая сеть, скрывавшая страницы "Архипелага ГУЛАГа" от обысков КГБ. Продублированные в нескольких экземплярах, они прятались на огородах и в городских тайниках, которые никто не умел изобретать лучше Угримова. В 1968 году он принял участие в изготовлении микрофильма и помог переправить "Архипелаг" на запад.
К тому же у него была машина – старенький "Москвич", – и на ней Александр время от времени привозил к Солженицыну нужных людей, развозил рукописи, а в 1971 году даже отправился вместе с писателем в долгое путешествие на юг, в сторону Новочеркасска, где тот рассчитывал собрать материалы о знаменитом "Новочеркасском расстреле". Об этой поездке, которая сложилась довольно драматично (в середине дороги Солженицын внезапно почувствовал себя плохо, возможно, из-за попытки отравления), сохранился большой очерк Угримова "История одной поездки", написанный "по горячим следам" событий, в середине 70-х. А когда Солженицын стал нобелевским лауреатом, именно Угримов оказался первым читателем и критиком вариантов его "нобелевской речи", составив на них подробные отзывы и замечания (с которыми Солженицын, впрочем, почти никогда не соглашался): "Наименее удачным тоном я считаю проповеднический и назидательный. В него, пожалуй, не следует впадать, он вызывает раздражение. Укорять, поучать и наставлять – очень русское свойство, мало ценимое на Западе".
В 1974 году, после высылки Солженицына, они расстались навсегда, так и не закончив свои споры, а в декабре Угримова вызвали в приемную КГБ.
– Расскажите о своей дружбе с Солженицыным! Что? Ничего не было? А как же ваша совместная поездка на юг?
– Да она вообще не состоялась! Я просто отвез его тогда на вокзал.
И правда, доказать обратное следователи не могли – бывший скаут идеально соблюдал конспирацию, а очерк о той поездке, равно как и другие "запретные" бумаги Угримова, хранились в надежных тайниках, о которых знали только он, жена и дочь.
Послесловие
Эти архивы были еще раз перепрятаны Татьяной после его смерти в 1981 году, и в 2004-м наконец дождались своего часа, когда в Москве ей удалось издать книгу его воспоминаний "Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту", полновесный том, над которым Александр Угримов работал последнее десятилетие своей жизни.
Еще одна, последняя попытка выразить биографию. Но для тех, кто идет дальше титульной страницы, в этой (совсем не философской) книге, безусловно, есть намек на будущее и прошлое страны России, и формула судьбы для многих, кто чувствовал и чувствует неразрывную связь с ней: расти, стареть, исчезать, возрождаться.