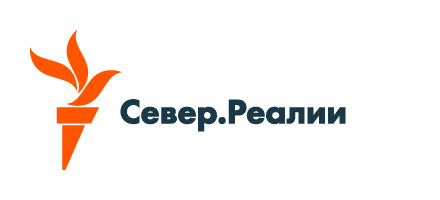Кинокритик, бывший редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин уехал из России сразу после начала войны. Он относится к числу тех деятелей российской культуры, которые никогда не скрывали своей гражданской позиции.
Сразу после 24 февраля 2022 года развернулась общественная дискуссия об ответственности постсоветской культуры за новое варварство. В этой связи часто упоминали фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", с которых, как считают многие, следует отсчитывать зарождение идей неоколониализма и реваншизма в России.
Несмотря на то, что российские власти считают Антона Долина "иностранным агентом", он призывает разделять ответственность государства и культуры. Долин уверен, что влияние милитаристских фильмов на умы россиян сильно преувеличено, а судить фильмы Балабанова, например, нужно по законам того времени, когда они были созданы (1997–2000); он также считает, что упреки в империализме следует относить не столько к русской культуре, сколько к школьной программе по литературе, которая в широком смысле осталось неизменной еще со сталинских времен.
– Большинство наших общих знакомых из сферы медиа, например, говорят, что работа сегодня – единственное, что спасает, "не дает сойти с ума". Как и чем ты спасаешься?
– Это началось еще четверть века назад, когда, работая на "Эхе Москвы", я придумал для себя, что буду кинокритиком – в дополнение к основной работе. С утра, как и другие корреспонденты, я бежал, куда пошлют – но параллельно знал, что у меня на этой неделе два пресс-показа и столько-то фильмов посмотреть. Точно так же и сегодня моя профессия помогает мне не сойти с ума. Понятно, что сегодня весь мир, и я в том числе, ждёт, трепещет – не придумает ли Кремль чего-то еще более ужасного. Но параллельно с этим я помню, что сегодня мне нужно посмотреть еще три фестивальных фильма, а между ними надо успеть написать статью об одном из них. И написать об этом фильме так, чтобы читателям, которые, конечно, тоже полностью погружены в политическую и военную реальность, это было минимум полезно. Эту ситуацию можно сравнить с тем, что – представим себе – вокруг происходит что-то ужасное, но у тебя дома, к счастью, беспорядок; как бы там ни было, ты можешь вытереть пыль, помыть пол, вымыть посуду – и это отвлекает от того внешнего кошмара, на который ты никак повлиять не можешь. В итоге бытовая локальность помогает выжить.
– Но у многих теперь нет его, дома: в прямом или переносном смысле.
– Нет одного дома – но есть другой. Тем лучше. Тут же возникает тема с обустройством нового, пусть и временного дома. Вот у нас нет стаканов. Нужно срочно купить. А где здесь продаётся средство для мытья посуды? А наши книжки ставить уже некуда – они валяются на полу; пойдём купим стеллаж. Как пелось в фильме "Обыкновенное чудо", "заполним заботами быт". Я далёк от того, чтобы презирать быт и отодвигать его в сторону. Наоборот – быт успокаивает, даже спасает.
– А зачем в этой ситуации – извини, конечно, за дикий вопрос – возить с собой книжки?
– Нет ничего дикого, нормальный вопрос. Ну, во-первых, как мы знаем издревле, человеку вообще мало что нужно. Каждому достаточно шести футов земли. И все. Сегодня не только о мёртвых, но и о живых мы можем это сказать. Я проходил недавно по Унтер-ден-Линден и видел модель камеры, в которой существует Алексей Навальный; думаю, каждый из нас при взгляде на нее вспоминает русскую пословицу про суму и тюрьму и мысленно проецирует эту ситуацию на себя. Вот четыре стены – и больше ничего. И все, что у тебя остается, – только то, что в голове. С одной стороны. С другой – мозг каждого из нас в критической ситуации работает очень интересно. Допустим, тебе говорят, что в твоём доме утечка газа или пожар. Понятно, что первым делом ты хватаешь близкого человека. Детей, жену или мужа, или родителей. Но что ты ещё положишь в карман или в сумку – если успеешь, конечно, ее собрать? Это могут оказаться какие-то случайные вещи – на взгляд со стороны, но для тебя очень важные. Иногда люди забывают паспорт, но хватают свою детскую игрушку. Которой ты, скажем, играл в детстве лет сорок назад. Можно сказать, что это безрассудное поведение, но вообще-то, если вдуматься, – нет. Потому что паспорт можно восстановить и его сентиментальный вес – нулевой. А если игрушка сгорит, второй такой уже не будет – даже если сделать потом ее точную копию, правда? Когда мы собирались уезжать из России – почти год назад, ко мне пришли жена, дети с вопросом "чего брать?". Я сказал им – я и сегодня не отрекаюсь от этих слов: "Берите с собой только то, что для вас по-настоящему важно". Все остальное как-нибудь добудем, купим потом – из необходимого. Ну, а неважное само собой отпадет. Старший сын взял с собой игровую приставку – она у него целую сумку заняла. Младший набрал – хотя ему уже 13 лет и он Сэлинджера читает – целую сумку мягких игрушек. А я взял несколько книг. Я думал сперва взять с собой какие-то важные для меня книги. Но на самом деле что такое – "важные книги"? Это важные тексты. Тексты ты сегодня можешь найти в интернете или заново купить – если читаешь бумажные книги; я вот читаю бумажные. И в итоге я взял те книги, которые планировал прочесть или начал читать. Я понял, что, если не вернусь в Москву – а я вполне допускаю такую возможность – и оставлю эти книги недочитанными, это будет меня потом терзать. И я решил: возьму их – и дочитаю, там, где окажусь. Так в итоге и получилось.
– Европа для тебя – дом?
– Нет, дом у меня один – это моя квартира в Москве. Никакого другого нет; ну, может быть, будет – но пока что такая возможность даже на горизонте не просматривается. Но в широком – гуманитарном смысле – Европа всегда была и моим домом. Поскольку Москва была ее естественной частью. Осознание того, что Москва и Россия – часть Европы, как-то органично пришло ко мне примерно в первом классе школы. "Айвенго" и "Капитанская дочка", "Маленькие трагедии" и "Гамлет" – они всегда для меня находились, условно, на одной полке. И я никогда не понимал, почему они должны стоять на разных. Почему "Горе от ума" должно быть для меня дороже, чем "Сирано де Бержерак"? Дискуссии между западниками и славянофилами на любом этапе мне всегда казались сугубо академическими и бессмысленными. Я люблю Москву именно за то, что это европейский город. И Санкт-Петербург я люблю за то же самое. Только не надо представлять, что европейский город – это обязательно рациональный, красивый, карамельный и напомаженный, готовый для туриста. Те, кто так мыслит, никогда по-настоящему не видели Париж или Лондон…
– Или, скажем, берлинскую подземку…
– Да, или берлинскую подземку. При этом – если вы попадаете, допустим, в Лос-Анджелес или даже в гораздо более европейский Нью-Йорк, в Пекин или Токио – вы хорошо понимаете, что это другой мир, отличный от европейского. А вот Москва в этом смысле гораздо ближе к Берлину или Парижу, чем к Пекину или Токио. И если я больше никогда в жизни в Москве не окажусь, Европа была и останется моим домом.
– Вопрос про кино – неизбежно. Мне на почту по-прежнему продолжают приходить пресс-релизы новых российских фильмов. Машина киноиндустрии в России продолжает бесперебойно работать; и все эти сюжеты – "работник правоохранительных органов влюбляется в подозреваемую" – они продолжают воспроизводиться как ни в чем не бывало. Как к этому относиться – и нормально ли это?
– Давай начнём с того, что напряженные общественные обсуждения любого рода инклюзивности в искусстве и в жизни привели нас как минимум к одному пониманию: слово "нормально" не значит больше ничего. Следовательно, задаваясь вопросом "нормально" ли то или это, мы обречены блуждать в трёх соснах. И не можем из них выйти потому, что у нас завязаны глаза. И сосны тут не виноваты. Просто повязку нужно снять. Никакой нормы нет – и в особенности после 24 февраля все представления о нормальном и ненормальном, возможном и невозможном окончательно сбились. И было бы странно удивляться, скажем, триумфу "Чебурашки" в российском прокате на этом фоне. Я не удивлюсь, если завтра марсиане высадятся где-нибудь на Потсдамер-плац, – почему я должен удивляться тому, что в России продолжают работать кинотеатры?
И чисто с практической точки зрения почему это должно удивлять? Власть годами вкладывала огромные ресурсы в развлекательную индустрию – именно для того, чтобы россияне ничего не замечали. И считали, что все идет как раньше. С помощью кино это всегда было сделать проще. Объяснюсь. Вот скажем, театр – это живые люди, которые играют на сцене. Если живые люди что-то не то сказали со сцены – необязательно даже сейчас, а в прошлом, – то они, как мы видим на примере Дмитрия Назарова, Лии Ахеджаковой и многих других, просто исчезают, иногда и вместе со спектаклями. Словом, театр – это всегда проблема с точки зрения идеологии. С поп-музыкой та же история: контролировать рокеров или рэперов еще сложнее. А вот с кино все проще. Недавно вышел в прокат фильм "Мира"; он не имел большого успеха в прокате, но там одну из главных ролей сыграл Анатолий Белый – политэмигрант, который открыто высказался против нынешней политики Кремля. Но на экране ведь – не живой Анатолий Белый, это лишь персонаж в его исполнении, запечатлённый образ. Или вот фильм "Праведник", который снял сейчас Сергей Урсуляк. Это, как я понимаю, идеологически важный проект; я не видел сам фильм – но знаю, что там играет Чулпан Хаматова. Фильм, несмотря на это, показывают в кинотеатрах. Возможно, где-то в Кремле или на Лубянке думают: Хаматова со сцены МХАТа может сказать что-то опасное – но вот на кинопленке она ничего неприемлемого не скажет. Потому пусть фильмы с ней или с Белым пока выходят. Конечно, вполне возможно, что вскоре начнут вычищать из кино тех, кто "не с нами", и надо будет срочно снимать новые русские блокбастеры, где уже не будет ни одного опасного артиста. Будущее нам неведомо. И последние месяцы показывают, что лучше не пытаться его предсказывать. Но кино по-прежнему выполняет важную социальную функцию нормализации.
– Если к нему, конечно, есть интерес зрителя.
– А он есть, как мы видим. Кинематограф во все времена был и остаётся самым дешёвым развлечением. Самым массовым. Есть множество городов в России, где нет ни театров, ни симфонических оркестров. А вот кинотеатры есть везде. И люди ходят в них – им же надо как-то отвлекаться. Мы можем, конечно, с высоты нашего морального положения осуждать их за желание развлекаться в нынешней ситуации, но это лукавое осуждение. Потому что даже если плохой человек пойдёт в церковь помолиться – мы же не осудим его за это. Почему же мы не понимаем зрителя, которой идет на фильм "Чебурашка"? Он точно так же ищет какого-то утешения, побега в воображаемый мир – в котором возможна справедливость, свет, надежда. Можно по-разному оценивать и разбирать с точки зрения морали позицию людей, которые смотрят пропагандистский телевизор, хотя ведь и мы можем его смотреть, объясняя тем, что нам как аналитикам это смотрение необходимо. Но как можно упрекнуть в этой ситуации человека, который идет смотреть "Чебурашку", я ума не приложу.
– Я вспоминаю сегодня нашу кинопатриотику – взять хотя бы фильм "Батальонъ" (2015), который смотрелся откровенной милитаристской агиткой… Не говоря уже о фильмах и сериалах поплоше. И у меня теперь такое чувство, что все это кино было одним большим и страшным пророчеством. Нет ли у тебя ощущения, что прямая вина милитаристского кино – в том, что оно приближало весь этот ужас?
– Понимаешь, это многоэтажный разговор. Мы можем его сразу сделать одноэтажным, полуподвальным – сказав: "Да, было очень много фильмов про войну, в которых по сути утверждалась наша исключительная правота во всем – и значит, кино также виновато в том, что случилось". И закончить на этом. Но если мы захотим продолжить этот разговор, начинаются сложности. Они не должны причем привести нас к отмене первого тезиса, ни даже к его пересмотру. Но стоит ли руководствоваться поверхностными выводами? Во-первых, если говорить о прямом вкладе именно пропагандистов – тех, для кого кино было побочным занятием, – все их творения в жанре кино не имели публичного успеха. Например, фильм Алексея Пиманова "Крым" (2017) провалился в прокате; фильм Тиграна Кеосаяна "Крымский мост" (2018) также провалился. И если я поставлю вопрос так: что вреднее – "Крым" Пиманова или любой выпуск программы "Время покажет" в контексте войны, – мы все знаем ответ. Получается, что это кино – на которое, в отличие от пропагандистских телепрограмм, были потрачены миллионы долларов и которое делалось годами, – в результате имело нулевой эффект, на уровне "чижика съел". А дальше еще интереснее. Чем лучше, качественнее, мастеровитее кино, тем более сложным становится его месседж. А как только усложняется месседж, становятся возможными разные трактовки. Допустим, месседж фильма "Сталинград" (режиссер Федор Бондарчук, 2013) отличается от ура-патриотики: главная его идея – защита собственного дома, там нет никакой нападательности, агрессивности. Напомню, что даже образ врага – немца – в этом фильма гуманизирован. Притом что эстетка этого фильма, довольно агрессивная, в определённой степени породила эстетику нового военного кино. И сегодня, смотря "Сталинград", мы можем испытывать некий кринж, думая о том, что нынешняя возгонка пропаганды, может быть, началась именно тогда. Но, с другой стороны, эта эстетика напрямую заимствована у Голливуда, который и сегодня делает такие милитаристские фильмы, как, например, Top Gun: Maverick (2022); и если бы не война, мы бы говорили про классного Тома Круза и обсуждали спецэффекты. То есть все зависит от контекста. И случаев, когда талантливый фильмейкер, допустим, делает фильм с однозначным милитаристским месседжем – как, например, фильм "Т-34" (2019, режиссер Алексей Сидоров), – крайне мало.
– Любование насилием, упоение насилием как таковым – вне исторического контекста – как раз и выделяет этот фильм.
– Но, опять же, если ты будешь вспоминать, то фильмов с таким месседжем будет крайне мало. Например, тот же режиссер и команда сделали в 2021 году фильм "Чемпион мира", он вышел за месяц до войны. Этот фильм в том числе о том, какие плохие американцы, которые хотели не дать победить нашему Анатолию Карпову. И этот фильм не имел большого кассового успеха, он проиграл в прокате "Человеку-пауку-3" – в котором американцы спасают мир. То есть мы видим, что зрители в России на американский фильм пошли с большей охотой, чем на русский. О чем это говорит? О том, что все прямолинейные нарративы, которые занимаются возгонкой зла и ненависти, не имеют коммерческого успеха.
Люди, которые ходят в кино, делают осознанный выбор. Они платят за него. Это телевизор показывает всякую шнягу бесплатно, но те же, предположим, зрители за голливудские фильмы готовы платить. Я весь год думаю над темой участия кино в этой войне – и собираюсь писать книгу об этом, и эта тема меня очень интересует. И помимо перечисленных тезисов есть еще один, парадоксальный – про который я, цитируя Пригова, "до сих пор не передумал". Когда кино прямолинейно что-то сообщает, когда оно превращается в пропаганду – оно лишается своих художественных качеств, а значит не может всерьёз навредить. И воздействовать на публику. Чем больше в кино пропаганды, тем меньше искусства – и тем ниже сила его воздействия на зрителя.
– Почему российские актеры соглашались играть в откровенно милитаристском кино? Хотя они прекрасно понимали, что все это ничтожно с точки зрения искусства – и вредно с точки зрения поощрения самых низменных чувств.
– Простейший ответ на этот вопрос ты знаешь и сам, и я даже не буду его озвучивать. Далее. Если, допустим, спрашивать каждого из них, ты наверняка услышишь такие ответы: "Я всего лишь играл свою роль, сценарий был хорошим – а этой сцены, за которую меня потом ругали, – в сценарии не было". Или: "Я не отвечаю за финальный монтаж. Когда я увидел финальный монтаж, то понял, что мое участие в этом фильме невозможно, и я решил снять свою фамилию из титров"… И так далее. Но этот вопрос можно с таким же успехом обратить на нас самих: почему я и ты прежде работали в тех российских массмедиа, которые так или иначе контролировались властью? Если оставить в стороне тезис о коллективной ответственности, ответ будет выглядеть так: потому что нам до 24 февраля казалось, что мир не черно-белый. Человек, оценивающий сегодня этот аргумент со стороны, может сказать мне: "Но ты же работал на государственные СМИ". И я скажу: "Да, но". Если быть исторически справедливым – если судить историю по ее законам, необходимо мысленно вернуться в ситуацию с массмедиа в России, скажем, до 2022 года. Эта ситуация до последнего момента сохраняла в себе потенциал, возможность "другой России". И, собственно, поэтому мы так себя вели. Я недавно рассказывал одному немецкому журналисту о том, что долгое время существовал в двух противоположных измерениях – уже после оккупации Крыма. Утром я мог открыто, делясь этим в своих соцсетях, пикетировать здание администрации президента с плакатом на украинском языке "Выпустите политзаключённых" – и после пикета, простояв там час, бежать на эфир радиостанции "Вести ФМ", где только что был эфир Владимира Соловьева. И вот вопрос: когда я в своём эфире рассказывал о независимом американском фильме или об ЛГБТ-кино – это хоть немного склоняло колеблющуюся стрелку в сторону добра? Или самим фактом своего участия в эфире я легитимизировал Соловьева с его пропагандой? Иными словами, это была борьба или игра в поддавки?
– Никто из нас не знал, чем все закончится.
– Совершенно верно. Как не знал и Соловьев. Не надо думать, что он знал – и использовал нас. Он ведь тоже не знал. Если помнить об этой проекции – "до 24 февраля 2022 года", все выглядело так: например, Дума издает закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, а мы в ответ издаём книжку про Альмодовара, которая продается рекордным тиражом, и устраиваем показы его фильмов. Можно представить "их" взгляд на это: пусть они там копошатся со своими книжками – а закон запрещает все это. Но возможно представить и наш взгляд, тогдашний: пусть они плодят свои законы – а книгу все равно все покупают, а на фильм Альмодовара все равно приходят и смотрят. Это сейчас кажется, что не было никакой борьбы и мы позволяли творить беззаконие; но тогда это было нормальным сопротивлением гражданского общества, которое использовало любую возможность для того, чтобы высказать другую точку зрения, чтобы в эфире звучали "другие голоса".
– До некоторого времени все действительно балансировало на грани, вспомним хотя бы 2012 год, протесты в Москве. На самом деле тогда никому не было ясно, в какую сторону качнется маятник, чем все закончится.
– Нет никакого "на самом деле". На эту ситуацию всегда будут возможны два принципиально разных взгляда, никакой единственной правды тут быть не может. Я понимаю, что захожу сейчас на опаснейшую территорию "не все так однозначно" – но так тоже можно посмотреть. В 2014 году или раньше можно было занять однозначную позицию: эмигрировать, замолчать, перестать всем этим заниматься. И осуждать с высоты своего морального превосходства тех, кто ещё копошится. И барахтается. Но я лично знаю людей – их сотни, которые благодаря нашей работе также находили в себе силы дышать, бороться, надеяться. Но кто-то на это заметит, что лучше бы еще тогда занять позицию – что называется, "больше ада". Штука в том, однако, что мы живем только одну жизнь. Я посмотрел на Берлинале замечательный фильм "Прошлая жизнь". Он снят кореянкой из Америки, и вообще-то он о любви. Но в этом фильме попутно есть замечательная мысль. Как несправедливо, что каждый из нас проживает только одну жизнь, только один ее вариант. Героиня, кореянка, когда-то переехала в Канаду, а потом в США – и тем самым обрекла себя на жизнь, в которой встретит своего будущего мужа, станет американкой, жительницей Вест-Виллиджа на Манхеттене. Спустя годы ее навещает парень из Кореи, в которого она была когда-то влюблена. Она сидит с ним и своим мужем в баре, ночью, накануне отъезда – и думает о том, что останься она со своим корейским парнем – ее жизнь сложилась бы совсем по-иному. Но одновременно она не знает, как сложилась бы тогда ее жизнь. Ни у кого из нас нет возможности это проверить.
– Украинcкое искусство 30 лет проговаривало, работало с тоталитарной, советской травмой – и преодолело ее. Российское искусство не сделало этой важной, необходимой работы. Я не припомню у нас ничего выдающегося, заметного на эту тему – кроме, пожалуй, "Груза 200" Балабанова. Искусство преодоления тоталитарного опыта – как ты видишь эту задачу с точки зрения кино?
– Как я вижу – начать и кончить. И это совершенно неизбежно. Но ты говоришь "мы" – нет никакого мы. Все люди по-разному понимают и решают эту задачу. И эту работу. У меня за два-три года до войны книжка вышла под названием "Миражи советского" – она вся посвящена новому русскому кино, снятому об СССР. Я не могу сказать, что не занимался этим, – набралось ведь материала на целую книжку. Другое дело, насколько успешно мы этим занимались. И занимались ли наши режиссеры анализом – или мифологизацией? Наверное, в итоге и тем, и другим. Над чем-то подобным задумывался, скажем, Алексей Федорченко, когда снимал свою "Войну Анны" – или "Ангелов революции". Чем-то подобным занимался и Герман-младший, когда снимал "Бумажного солдата" или "Довлатова". Но одновременно существовали большие фильмы о войне, о спорте, которые занимались прямой мифологизацией советского прошлого. Мы в журнале "Искусство кино" анализировали это – может быть, не так активно, как следовало бы. Но все-таки работа происходила.
– Алексей Герман-младший – большой мастер. Проблема – и это касается вообще всего постсоветского кино – в том, что даже он соблюдал "правила игры", сложившиеся в нашем кино за 20 лет, следуя компромиссу "в советское время было плохое, но было и хорошее". Но вот это – "было и хорошее", оно в итоге и было уступкой, примирением с советским.
– Я не считаю, что "Бумажный солдат" – компромиссный фильм. Он опрокидывает один из двух главных мифов, на которых зиждилась вся постсоветская мифология. Этих мифов, собственно, два – победа и Гагарин, космонавтика. "Бумажный солдат" – это фильм, где в центре повествования не великий космонавт, а один из тех, кто остался незамеченным, в тени: интеллигент, мучимый всеми этими вопросами – как можно отправлять человека в космос на фоне все ещё ГУЛАГа, несвободы, бедности и так далее. И этот человек умирает, так себя и не создав. Где же тут компромисс? Я его не вижу. "Довлатов" – это фильм о лучших из лучших, которые существуют в этом советском Ленинграде, которых не публикуют и которые себя не находят – и которые, как мы знаем из финального титра, уехали, чтобы состояться в качестве художественных единиц уже в эмиграции. Компромисс, как писал сам Довлатов, – но куда без компромисса? Бескомпромиссным был только "Груз 200". Ну так что же – нужно всем снимать только хорроры про СССР, где были страшные милиционеры-насильники – и ничего больше? Но этот бескомпромиссный хоррор неспособен привлечь широкую аудиторию – у этого фильма ее и не было. Чем бескомпромисснее ты высказываешься, тем меньше находишь понимания. Парадокс массового кино, к сожалению, состоит и в этом – что тоже приходится учитывать.
– Если критически оценивать прежний советский опыт и формулировать его как тоталитарную травму, с которой нужно справляться, – это оттолкнёт массового зрителя, большинство людей. Но кто же, как не массовое искусство, должно сказать людям тяжелую, но необходимую правду?
– Это звучит красиво: сказать правду. Травмирующую. Но кинорежиссёры знают: когда ты сознательно травмируешь с помощью фильма, люди, не желающие травмироваться, просто не идут его смотреть. Так что же – принудительно устраивать просмотры "Груза 200" или "Хрусталёв, машину!"? Чем травматичнее кино, опять же, тем меньше его аудитория. Тем меньше его воздействие.
– На "Покаяние" Тенгиза Абуладзе, с которого началась перестройка, люди ходили весьма охотно… Кстати, какие прокатные цифры были тогда у этого фильма?
– Конечно же хорошие, но это было ещё во время железного занавеса. Большую часть мировых хитов того времени в наших кинотеатрах не показывали. Если бы с этим фильмом конкурировали "Челюсти" Спилберга или "Звёздные войны" – возможно, цифры были бы другими. Но за неимением "Звёздных войн" люди ходили на "Покаяние".
– Нас ждёт новое "Покаяние"?
– Оно уже снято, "Капитан Волконогов бежал". И мы видим его прокатную судьбу сегодня. Ее попросту не было.
– Возможно ли существование андеграундного кино в России? Разделится ли кино, как когда-то литература, на два рукава – официальный и не-?
– Нет, это невозможно. Кино – это деньги. Это большое количество людей, которые за большие деньги создают для большой аудитории другой мир. Можно заниматься подпольно всеми видами искусства, кроме кино. Чем кино отличается от других видов искусств? Оно неразрывно связано с технологиями. Нет технологии – нет кино. Вот, предположим, мы с тобой потерпим кораблекрушение и окажемся на необитаемом острове. Мы сможем там со временем воспроизвести любое искусство – театр, архитектуру, книжки, живопись – но только не кино. Все, кроме кино. Вспомним фильм иранского режиссера Панахи – он был снят в 2011 году, когда режиссер находился под домашним арестом в ожидании приговора. Ему власти запретили снимать кино – и он из дома рассказывает о замысле фильма, пересказывает его своими словами – и в конце говорит, что это не кино. И мы понимаем, что в таких условиях снять фильм невозможно. "Это не фильм" – так он и называется. Только когда это снято, смонтировано и показано – только тогда это становится кино.
– Упреки в милитарности, которые звучат по отношению к русской культуре в целом, – общее место в последний год. Если вдуматься, в этом много правды: и воевавший на Кавказе Лермонтов тут приходит на ум, и даже Лев Толстой – хотя он же и наш первый пацифист. Нам придётся потом преодолевать этот милитарный комплекс в русской культуре.
– Ты не прав, Андрей. Сейчас, когда все чувства обостряются, когда идёт война – нам кажется, что вся российская культура состоит из одной имперскости и милитарности. Но, сорри – в "Горе от ума" мы симпатизируем Чацкому, а не Скалозубу. Любимым героем Толстого был не Андрей Болконский, которого он в итоге убил, а не желающий убивать Безухов. Будущий декабрист. Не говоря уже о позднем Толстом, который написал "Воскресение". И все, что нам нужно сделать, – это перепридумать изобретенную еще при Сталине школьную программу по литературе. Зачем детям, которые не понимают ни слова в "Бородино" Лермонтова – я, например, не понимал ни слова, учить именно это стихотворение, а не "Выхожу один я на дорогу"? Учат же "Белеет парус одинокий", прекрасное стихотворение, или "На севере диком". Можно перестать изучать в школе "Войну и мир", можно ее просто читать позже – а вместо этого читать "Хаджи Мурата".
– Проблема в том, что в "Войне и мире", собственно, война преподносится как нечто ужасное, но в то же время неизбежное, естественное…
– Просто в школе не нужно изучать "Войну и мир". Не запрещать, не изымать ее из библиотек. Пусть люди читают ее не по принуждению, не из-под палки плохих учителей – а сами, когда захотят. Если дозреют. Не дозреют – не будут читать. То же самое с кино. Фильмы Юрия Озерова (автор монументальных киноэпопей о войне), если их не показывать по телевизору, сами отойдут в историю. А смотреть "Иваново детство" Тарковского и сейчас не грешно – или "Восхождение" Ларисы Шепитько. Хоть это и фильмы про войну. Но милитаризм совершенно не является генеральной линией русского искусства – и кино в частности. Не в большей степени, по крайней мере, чем в любых других имперских культурах. В Англии или в Америке. Вспомним хотя бы "Взвод" Оливера Стоуна или "Охотника на оленей".
– Да, но при этом в Америке есть и устойчивая традиция антивоенного кино. А в России?
– "Проверка на дорогах" Германа-старшего – разве не антивоенное кино? "Иди и смотри" Элема Климова? "20 дней без войны" – фильм о людях, травмированных войной, которые мечтают вырваться хотя бы на несколько дней, чтобы вздохнуть. Он показывает войну как беду. Как травму. Или как рутину. Знаменитый кадр в "Проверке на дорогах", где не взрывают мост, под которым проплывает баржа с военнопленными. Не совершать военное действие – во время войны! Чтобы спасти жизни – кого? – пленных. Не знаю более антивоенного высказывания в кино, чем это.