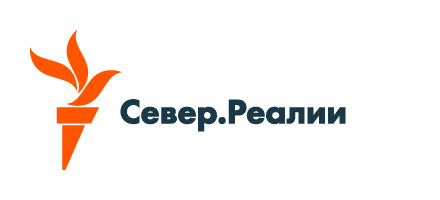Фотограф Екатерина Соловьева 20 лет прожила с семьей в Германии – там работает ее первый муж, физик, там выросли ее дети. Соловьева ценит свободу, спокойствие и комфорт западной жизни, осознает трагичные последствия войны в Украине. Несмотря на это, летом 2022 года, в разгар войны, она вернулась в Россию и теперь живет в российской глубинке со вторым мужем-реставратором, который восстанавливает деревянные здания. Она фотографирует российскую провинциальную жизнь, ищет старые фотопленки и восстанавливает биографии запечатленных на них людей, мечтая когда-нибудь создать музей. Герой ее очередного исследования, давно умерший учитель, строчил кляузы и восхвалял социализм, а местная жительница старшего поколения вспоминает аресты по доносам соседей. Соловьева говорит, что любит Россию и верит: правители приходят и уходят, а страна остается.
Возвращение
Одинокий дом в костромской глуши. Вокруг только шелестящие травы и ветер. В отдалении темнеют давно покинутые избы. Но дом ещё жив, в нём горит свет. Чахлая лампочка на кухне освещает рукомойник – судя по намалеванным красной краской буквам "вкл-откл", когда-то он был электрическим. Возле него громоздятся разномастные кружки и стаканы. Рядом с аккуратно сложенными в коробку фотопленками – связка черствых баранок и ящик с глиняными расписными фаллосами, подарок местного поэта.
Коротко стриженный мужчина с аккуратной бородкой растопил печь и ловкими движениями меняет клинышек в топоре. Потертая куртка в пятнах краски. Женщина с собранными в пучок темными волосами готовит ужин. Её сильные босые ноги уверенно шлепают по дощатому полу. Обоим около 45 лет. Мужчину зовут Антон Мальцев, он реставратор памятников деревянной архитектуры. Женщина, поджаривающая сосиски, – фотограф Екатерина Соловьева, чьи выставки идут по всему миру. Она 20 лет прожила в Германии. Екатерина считает вторжение в Украину трагедией с ужасными последствиями для обеих стран. Но все же летом 2022 года она вернулась из благополучного Гамбурга в Россию. Что привело человека с европейскими взглядами, любящего европейский комфорт, в российскую глушь, да еще и в разгар войны? Почему она, несмотря ни на что, любит "русскую хтонь", погубившую ее друзей и ей самой чуть не стоившую жизни?
Колодозеро
В Германию Екатерина, молодая выпускница журфака, попала в 2002 году. Мужа, физика-теоретика, позвали в аспирантуру в Штутгарт. Уезжать она не хотела – отец, завзятый путешественник, с детства увлек ее Русским Севером. Но у нее был маленький сын. Муж сказал: "Ты зарабатываешь на жизнь? А я могу заработать только там". Через три года родилась дочь. Семья переехала из Штутгарта в Гамбург. Все это время Екатерина разрывалась между двумя мирами.
– Мне нравилось – тут я европейская жена ученого, а потом уезжаю в Россию на месяц, два, – вспоминает она. – Я думала о проектах про Германию, но меня там ничто не зацепило. Снимала один захиревший городочек на границе с Францией. У него была какая-то атмосфера, но не настолько, чтобы все бросить и там жить.
В 2009 году Екатерина узнала о вымирающей карельской деревне Колодозеро. Горстка москвичей-энтузиастов построила там деревянный храм Рождества Богородицы.
– Это была потрясающая идея, которая могла возникнуть только в 90-х, когда бурлило неофитство, все только начиналось и расцветало, – вспоминала потом Екатерина в интервью порталу "Православный мир". – Они все были молодые, очень умные и начитанные, настоящие, из одной тусовки – слушали "Гражданскую оборону", дружили с Вадимом Кузьминым ("Черным Лукичем"), который потом много раз бывал в Колодозере и давал там концерты, все были влюблены друг в друга и в Россию, в Русский Север, и в жизнь…
Служил в этом храме "священник-панк": выпускник РГГУ и гражданин Эстонии Аркадий Шлыков – рыжий гигант, похожий на викинга. Работал он в самых немыслимых условиях: однажды батюшка провел литургию в химическом классе школы, украшенном портретами Менделеева и Ломоносова. К нему съезжались со всей России странные люди. Мечтатели, эскаписты. Впоследствии Екатерина скажет: "Каждый, кто приходил в дом Аркадия, от чего-то убегал". Они подружились сразу – и на всю жизнь.
Екатерина ездила на Колодозеро многие годы. Пошли выставки. За публикацию книги о крошечном карельском селе взялся известный голландский издатель Мартин Шильт. Она вышла 8 февраля 2018 года. Через четыре дня отец Аркадий умер. Презентация книги стала вечером его памяти.
– Я начинала восторженной дурочкой, которая ехала за сказочкой – ой, рыжий священник, классный такой, в глуши служит, все поднимает, – рассказывала Екатерина. – Были надежды, был крест, который они взвалили на себя тогда, 20-летними… Русский Север это все сожрал. Наша русская тягучая хтонь съела. Аркадий сколько мог – шел. А потом устал. Храм сейчас стоит закрытый.
А книга жила. Выставки Екатерины проходили в Европе и Америке. На фестивале в Костроме она познакомилась с Андреем Павличенковым – живущим в Британии бизнесменом и меценатом. Он был мечтателем, как отец Аркадий, но более практичным, и вместо храма создал в чухломской глуши гостиницу "Лесной терем Асташово" – восстановленную усадьбу богатого крестьянина Мартьяна Сазонова, кажется, прилетевшую сюда прямиком из русских сказок. Реставрировал ее Антон Мальцев.
– Я поняла, что моя жизнь будет связана с Россией. Хотя не понимала как – на что жить, где жить, – вспоминает Екатерина. – Неуверенность не давала мне почвы, чтобы вернуться. В 2018 году мы купили в Гамбурге в ипотеку квартиру, и я смирилась – ну все, что тебе еще нужно. Эльба, корабли, взрослеющие дети, муж-ученый, квартира в хорошем районе с садом, рядом ферма.
В пандемию Екатерина оказалась запертой в своей благополучной квартире вместе с мужем, без возможности ездить в Россию. Вспыхивали конфликты, семья разрушалась. Когда карантин сняли, она встретилась с Антоном, который приехал к коллегам, реставраторам мельниц в Нидерландах. Оба поняли, что их связывает не только работа. В июле 2022 года они стали жить вместе, в России. Поселилась пара неподалеку от сказочного Терема. Антон восстанавливает деревянные здания, Екатерина фотографирует – и ищет архивы местных фотографов и литераторов, мечтая когда-нибудь создать музей.
Борьба с помойкой
Костромская область оказалась щедра на странных людей и странные истории. Их Екатерина называла просто – "хтонью". Она боялась, что эта хтонь ее сожрет, как сожрала отца Аркадия, но не могла без нее жить. Уборщица, записанная старым мэром в кандидаты просто так, для галочки, и неожиданно победившая на выборах. Чеченец, сокрушающийся, что в Москве одни черные. Женщина, сошедшая с ума от любви к киномеханику, приезжавшему в село с новыми фильмами. Уже и белое платье было, а он женился на другой. Глава местного отделения "Единой России", публично славящий власть, а за рюмкой, прослезившись, поднимающий тост: "Чтобы не убивали". Не хватало только немецкого уюта, толики сибаритства, чтобы предаваться ему, возвращаясь из экспедиций. Перебирая объявления, она увидела дешевую квартиру в старом костромском доме. Друг посмотрел ее и сказал: "Квартира полный п****ц. Но брать надо".
– Наш костромской сосед справа трижды судим, слева – только что отсидел. И все они спрашивали: "Как вы здесь оказались?" Я говорю: "У вас прекрасный дом". Они: "Чего?" Я: "Посмотрите, он с историей, стены толстые, окна большие, потолки три с половиной". Они: "Да, наверное. Но крыша течет". – "Так давайте дрючить управляющую компанию!"
Жильцы с удивлением наблюдали, как новая соседка собирает мусор неведомым устройством – палкой-хваталкой, выслушивали объяснения – "в Германии все так делают", кивали с умным видом. Когда сошел снег, Екатерина увидела перед домом помойку – три бака без крышек, засиженные вороньем. Написала в администрацию. Выяснилось, что помойка стоит уже 30 лет и принадлежит неведомо кому. Загадочный владелец даже иногда вывозил мусор, но оставался неизвестным, как Бэтмен. И у этого Бэтмена были союзники, готовые защитить помойку от немецкой гостьи.
– Люди из соседнего дома вызвали меня на собрание, сказали, что помойка прекрасна и ее никогда не уберут, – вспоминает Екатерина. – Она оказалась чем-то вроде социальной сети. Люди тут встречались, разговаривали, кормили собачек. Кто-то принес микроволновку, смотрю – другой мужик на велосипеде её увёз. Но все же 20 лет в Германии накладывают неизгладимый отпечаток. Я не могу смотреть в окно на красивый деревянный дом и видеть, как ворона методично жрёт целлофановый пакет.
Потерпев неудачу на бюрократическом фронте, Екатерина пустила в ход привычное оружие. Она стала фотографировать баки и выкладывать в костромские паблики. Через четыре месяца борьбы помойка исчезла.
– Как может устраивать помойка? – удивляется Екатерина. – А люди говорили прямым текстом: нам нравится. Почему?
– Они получили хоть какие-то условия для жизни в первом поколении, – отвечает Антон. – До этого бараки, пять человек в комнате, холодные туалеты. И даже они были неплохи в сравнении с тем, что раньше.
Раскаявшийся разбойник
Грязная "Нива" трясется на гатях из бревен, проложенных через болото.
Останавливается на поляне перед темной от времени церковью. Андрей Павличенков, хозяин Терема, хотел ее реставрировать. Говорил, что проложит сюда пешеходный маршрут, по которому будут гулять богатые туристы. Бизнес-проект выглядел сомнительно. "Андрей не думает категориями денег, – объясняет Екатерина. – Важно, что это предпоследний деревянный храм Костромской области".
Дымит костер, она режет лук и мясо. Долго трясет солонку, вскрикивает сердито:
– Опять сушеные мухи в соли!
Реставрацию планировали начать осенью 2022 года, но помешала война. В ноябре купол храма рухнул. Кованый крест вонзился глубоко в землю. Антон с помощниками долбил мерзлый грунт, чтобы его извлечь. Обвалившуюся часть собрали, аккуратно сложили под навесом.
Черная крутая лестница ведет в брюхо осевшего храма, к опустевшему алтарю. Иконы были на холстах. В брежневские времена большую часть собрал и отправил к себе домой по почте один приезжий. А изображение Страшного суда, по рассказам местных, "подрезал" сам поп. Спрятал у родственниц, потом нашли. Часть икон в костромском музее, часть пропала. Как они выглядели? Где находились? Без ответа на эти вопросы полноценная реставрация невозможна.
Подступает ночной холод, и Екатерина крепко повязывает красный платок в горошек.
– Храмы Ефремия Сирина встречаются редко, – рассказывает Антон. – Этот был построен в 1737 году на месте сгоревшей церкви. Жизнь отсюда в советские годы ушла, последние две бабушки тут жили в 1993 году, у них от молнии сгорел дом. С тех пор остался только погост.
– Тут бытует легенда, что Ефрем Сирин, в честь которого освящен храм, был раскаявшийся разбойник, – добавляет Екатерина. – Символично, что обрушился храм именно в 2022 году.
– Наш разбойник нераскаявшийся, – говорит Антон. И тут же поправляется: – Не наш. Мы за него не голосовали.
Дом учителя
Вымершая деревня. В стороне от дороги – старый дом. Между окон – надпись: "НЕ РАЗБИРАТЬ". Его действительно не разобрали. Он медленно разрушается сам. Крыльцо ввалилось, заросло травой. С потолка свисают клочья материи. На окнах – пустые бутылки, выпитые почти полвека назад. Обои отклеились, обнажив драные передовицы "Правды": "Гонка вооружений и американские военные базы – угроза миру", "Амнистия нацистов незаконна", "Почему приуныли в Бонне?". На статье про столетие обороны Севастополя свила гнездо ласточка.
Екатерина осторожно шагает по тряскому полу. Ее старые кроссовки доверху заляпаны грязью. Когда она впервые попала сюда, пол был устлан старыми письмами. Жилец – учитель Валентин Карцев – печатал их на машинке с западающими буквами, и всякий раз снимал копию. Три охапки она вывезла, но многое осталось.
– Стихи, – Екатерина поднимает мятый листок.
Нигде души полней не освежишь,
Чем здесь, в Ефремье древнем, сердцу близком.
Но, отзвуков минувшего полна,
Идет к концу история села…
Старомодным слогом поэт жаловался на проблемы с водой и закрытие школы, лишь в конце находя повод для оптимизма:
– …но хороши сады. И, полный разных лакомых чудес, к селу все ближе подступает лес.
За поэмой следует аккуратная копия доноса на почтальоншу, которая на целые сутки задержала доставку газет, чем лишила учителя возможности вовремя прочитать доклад Политбюро. И опять поэма.
– "На страже мира", – читает Екатерина заголовок, и бодро декламирует:
Два десятилетья пролетели,
Равные векам по результатам,
И опять в свинговые метели
Защищать страну пошли солдаты…
Свинговые?
Она озадаченно вглядывается в пожелтевший листок и наконец восклицает:
– Свинцовые! Печатная машинка хреновая.
Под потолком мечется одинокая муха. За выбитыми окнами шумит дождь, качаются белые зонтики тысячелистника. Призрак Валентина Карцева проступает пока неясно, но с каждым новым обрывком бумаги обретает плоть, рассказывает свою историю. Жалобы на лишний вес, ссоры с женой, партсобрания, скрупулезное описание мелочей жизни в письмах друзьям – читали ли они его длинные послания? Бывшие соседи припоминали, что он все время ходил с портфелем. А еще Екатерина нашла его очки. История наклюнулась, но пока не сложилась. Ни портрета, ни родственников – единственный сын недавно умер. Но вот небольшая зацепка – в письме Карцев сообщал, что дописывает уже второй том мемуаров. Екатерина решает искать их в ближайшей библиотеке, в райцентре Парфеньево.
ПоZыVной – "РУССКИЙ"
На главной улице Парфеньево, возле серебристого Ленина, указующего на армейский вербовочный плакат, еще недавно стоял второй памятник – грибу. Село претендует на статус грибной столицы и ежегодно устраивает маскарадные шествия, возглавляемые мужиком в костюме гигантского боровика – почему-то с пышной накладной бородой. Сейчас гриб перенесли поближе к поклонному кресту.
Библиотека тоже недавно переехала, поэтому основных книжных запасов в ней нет. На стенах гроздьями, как гирлянды, висят буклеты с фотографией бойца и надписью "Работа для настоящих мужчин". На столе директора – только новые поступления: "Черная книга" о зверствах бандеровцев, поэтические сборники: "Стихи из огня", "Позывной – Победа!", "Позывной Поэт". Последний назван в честь воюющего с таким позывным местного поэта Михаила Душина:
Из Костромы и Курска,
Из Грозного и Казани,
Наш поZыVной – "РУССКИЙ",
Поэтому Бог с нами!
– Всё в единственном экземпляре, – говорит директор библиотеки Елена Николаевна, неуверенно поправляя прическу. – Мы только детей знакомим, никому не выдаем. В августе читали стихи про Донбасс и выкладывали на сайте. Дети охотно смотрят нашу акцию.
Помощница приносит тяжелую книгу со списком ветеранов Великой Отечественной. Карцеву посвящен короткий абзац: рядовой, воевал радиотелеграфистом и связистом, контужен, наград не имел. Фотография 1938 года – юноша с приятным лицом, которое несколько портят тяжелая челюсть и бородавка. Фуражка со звездой, скрещенные молоток и ключ на петлицах. Годы жизни: 1921–1997.
– В старости он на всех жаловался, – говорит Екатерина.
– Люди охотно писали доносы, – кивает библиотекарша. – Значит, ощущали враждебность к соседям. Искали правду, правильность. Все были Павликами Морозовыми.
Она припоминает, что у Карцева был близкий друг, фотограф Владимир Варновский. Который наверняка снимал учителя в зрелом возрасте. Его дочь живет неподалеку, на улице Правды.
Коробочки заветные
Просторный дом, обшитый сайдингом. Печенье и сладости громоздятся в нераспечатанных коробках – хозяйка работает в магазине. У нее светлые растрепанные волосы и оранжевая кофта. Екатерину она ведет прямо на чердак. В полумраке чернеют раскидистые лосиные рога.
– Вот они, коробочки заветные.
Она приоткрывает крышку картонного ящика с надписью "Подсолнечное масло", и Екатерина видит, что он доверху забит маленькими футлярами. На каждом этикетка с аккуратной, подробной подписью, внутри – старая фотопленка.
"Весенняя вода у моего дома", – читает она случайную подпись.
А хозяйка ведет дальше, к большим мешкам, в которых обычно хранят картошку, но каждый тоже доверху забит пленками – наследием, копившимся с конца сороковых.
– Отец – участник войны, – поясняет она. – После нее работал участковым. Большая территория, там бараки были. Постоянно что-то происходило, надо было фиксировать.
Они сходят вниз, в гостиную. Дочь давно умершего фотографа вынимает из шкафа фотоальбом с улыбающимися гномами на обложке. Внутри – нагая утопленница, обгорелые трупы.
– В бараках такое творилось! Там постоянно пили. Вот пожары и пошли.
За пугающими мертвецами – деревенская свадьба, в двух частях. Молодой участковый быстро смекнул, что камера приносит ему куда больше дохода, чем работа. Уволился и стал снимать – увлеченно, с утра до вечера, на протяжении полувека. В павловскую реформу старик потерял 20 тысяч рублей – сумму, гигантскую даже по столичным меркам.
– А вот и Карцев.
Высокий дед в клетчатой рубашке тяжело опирается на трость. Смотрит на незнакомку, извлекшую его из небытия. Отыскавшую с помощью мертвого консерватора и кляузника, воплотившего в себе всю русскую хтонь, свой одиннадцатый – и самый крупный фотоархив для будущего музея.
У очередного альбома вместо гномов на обложке лишь скучный заголовок "Для рисования". Каллиграфическим почерком выведено: "Древнерусское зодчество в Парфеновском районе Костромской области, село Ефремье. 7 мая 1974 года". Внутри – фотографии церкви Ефрема Сирина. Подробная, скрупулезная съемка утерянного иконостаса. Потемневшие иконы на холстах, и ангелы, и демоны, и Страшный суд.
Русское хюгге
Вечер. Потрескивает огонь в печи. На столе – гора семечек и бутылка коньяка. Екатерина бережно разворачивает пленки, поднимает к лампе, просматривает. На ней – красная футболка со строгой грудастой русалкой, скопированной со старинного лубка. Местные зовут их фараонками.
– Пока из интересного только женщина на кровати. Кто-то целуется. Видимо, золотая свадьба.
– Тебя нельзя пускать к архивам, ты мыслишь, как журналист, – ворчит Антон, подбрасывая дрова. – Тебе надо хайпануть.
– Мне надо рассказать историю, – парирует Екатерина, не отводя взгляда от пленок.
– Это и есть – хайпануть, – не унимается Антон. – А надо все зафиксировать, не дай бог что-то пропустить.
– Он уже все зафиксировал, этот мужик. А я вытащу из его наследия жемчужины, которые, может, даже он не понимал.
Она кладет ролик в коробочку, достает другой:
– О, вот это классная пленка! Праздник, гармошка. А потом сразу похороны.
Бутылка быстро пустеет. Захмелевший Антон долго рассказывает, как в юности ехал через половину страны к известному мастеру, чтобы выучиться средневековому способу работы топором. Екатерину, напротив, тянет на философствования – возможно ли русское хюгге. Кусочки уюта она собирает по всей стране – лучший в мире педикюр в тверском селе Максатиха, модная стрижка огнем в Великом Устюге, в парикмахерской со старыми советскими сушилками для волос…
– Двадцать лет в Европе не заткнешь за пояс, – она смахивает в мусорную корзину подсолнечную шелуху. – Угнетает меня разруха, бытовая беспомощность. Приехала в одно селение – покосившееся, нищее, с разбитой дорогой. Предложила помощь. А глава мечтает об одном – подновить памятник солдатам. Хочется для наших людей больше уюта, уверенности в завтрашнем дне. Некрасиво живет русский человек.
– Тогда немцы из них получатся, – отвечает Антон, хлебая чай из широкой кружки.
– Тут всегда некая сверхидея царит, а маленькие бытовые вопросы вроде починки забора теряются, отступают на второй план. Из телевизора вещают о величии, избранности. Говорят: за границей плохо, у нас лучше. А мне гордиться мешают драный линолеум, печка недоделанная. Сходи в магазин, переклей, и снова смотри, как плохо на Западе, но уже с новым линолеумом. Мне не хватает этого мещанства, я люблю уют, но снимать предпочитаю разваленную хтонь. В бытовом плане мой уровень упал, но это компенсируется…
Антон прерывает ее на полуслове:
– У того полно забот,
Кто сегодняшним живет.
А кто живет эпохою,
Тому заботы по*ую!
Умиленье
Добраться в село Умиленье непросто, особенно в распутицу. Вверх ведет разбитая грунтовка. Высокую церковь Успения Пресвятой Богородицы украшают яркие голубые маковки. Вблизи видно, что они временные, из пластика. Внутри – строительные леса, крошащийся кирпич, птичьи гнезда и единственная икона. Христа нарисовал за один вечер студент-иконописец, чтобы молиться перед ним ночью, а утром уйти. Курлычут голуби, теряющееся во мраке пространство под сводами кажется бесконечным.
Верующие собираются на праздничную службу на лужайке перед храмом, готовые в любой момент спрятаться под крышу от дождя. Для священников сооружен дощатый помост – кто-то из батюшек в шутку назвал его эстрадой для поп-концерта.
– Когда в Израиль приходил благочестивый царь, страна начинала жить по-человечески. Когда же приходил какой-нибудь язычник, все рушилось, – обращается к прихожанам отец Андрей из погоста Успения. – Вот и в наше время верующих осталось мало. Этой войны бы не было, или она бы закончилась прямо в Гостомеле, если бы мы все обратились к Богу. Но Господь нас не благословил.
Длинные волосы отца Андрея полощутся на ветру, синее праздничное одеяние блещет на солнце. Он говорит уверенно, громогласно. Перед поступлением в семинарию батюшка закончил Бауманку и институт иностранных языков.
– В древности, когда случались бедствия, на народ накладывали пост, а в Ветхом завете и скотину не кормили. И все молились. Нам, всей стране, надо измениться, чтобы мы были угодны Богу.
Екатерина в темной юбке до пят снимает службу, а потом подходит к причастию. На крыльце пустой церкви двое детей, мальчик и девочка, фотографируют друг друга на планшет. Вскоре им надоедает, и они убегают играть за угол, где почти не слышны проповеди, зато косогор и запах трав, и дыхание долгожданного короткого лета.
После службы протоиерей Николай Озолин приглашает Екатерину и других гостей в трапезную. Как и она, он 20 лет провел вне России. Но не в Германии, а во Франции. Родился отец Николай в Париже, в семье известного священника, богословское образование получил в США, и в 1992 году отправился в Россию.
– Хотел участвовать в духовных преобразованиях, – поясняет он свое решение. – Здесь масштабы работы другие. В эмиграции все постепенно гасло. Русское задвигалось, делался акцент на мировое православие.
Отец Николай говорит с чуть заметным французским акцентом. Точными, изысканными движениями он разливает гостям вино в высокие бокалы. Благообразный протоиерей совсем не похож на "священника-панка" отца Аркадия. Его сложно представить проповедующим в кабинете химии под портретом Менделеева. И все же, вернувшись в Россию, отец Николай тоже отправился в Карелию. В 1997 году он возродил церковный приход в Кижах и стал там первым настоятелем в постсоветской России. Неудобства священник вспоминает с улыбкой:
– Я был совершенно небытовой. Для меня самым уютным местом был храм, все другое – второстепенно. На фоне наших эмигрантских маленьких храмиков тут чувствовался масштаб. В начале жил в маленьком домике, bungalow. Кровать, стол. Люди наблюдали: выдержу ли я бытовые условия? Неделю, две – еще жив. Но я люблю la vie rustique (деревенскую жизнь. – СР).
К бытовым трудностям отец Николай был готов: с шести лет и до совершеннолетия он ездил в летние палаточные лагеря в Альпах для детей эмигрантов.
– Нас с детства приучали любить Россию. Каждое утро будили звуками трубы и поднимали русский триколор. Потом мы шли строем в храм на молитву. Русская культура, русская история, музыка. "Боже, царя храни" петь уже не имело смысла, царя-то нет. Пели "Коль славен наш Господь в Сионе".
Лицо священника светится от приятных воспоминаний, ярко-голубые глаза блестят за стеклами тонких очков.
– Многое было похоже на пионеров, только галстуки синие. Мы носили значки-звездочки. С трепетом я рисовал в 12 лет двуглавого орла, гербы. Возле лагеря было место, где Бонапарт встретил войска французского короля под предводительством маршала Нея. Самые смелые ходили ночью петь статуе Наполеона лермонтовское "Бородино". От себя тоже добавляли русские слова.
Из тяжелых рам на стенах трапезной глядят изображения Николая Второго и императрицы Александры Федоровны. Протоиерей с наслаждением отпивает маленький глоток из бокала. По его словам, Франция ему больше не снится. После начала войны он окончательно порвал с Европой.
– Есть разительные отличия между взглядами на жизнь у нас и теми, что пропагандируются на Западе. Это факт, – пылко рассуждает он. – Уже лет 15 назад мне в США говорили, что Господь никогда не осуждал этих...
Батюшка запинается, подыскивая нужное слово.
– …голубых. Мол, они тоже люди, Бог есть любовь. Сегодня это навязывается уже на уроне школ. Но главное – за этим стоят деньги.
Аристократическое лицо священника делается суровым.
– Западная элита воспринимает людей как биоматерию. Человек – образ божий, и все эти движения с точки зрения христианства – расчеловечивание, le démontage. Все будет продаваться. Есть женские движения, готовые производить детей без утробы матери. Почитайте литературу – на Западе можно заказать цвет глаз и волос ребенка, IQ, если надо. Искусственно будут выращивать части тел, чтобы вставлять в человека и продлевать ему жизнь. Гендер – тоже часть этой тематики.
Он возмущенно всплескивает руками.
– Более традиционные страны и народы противятся этому. Мусульманский мир и Россия. Самая яркая иллюстрация этого – трагическая междоусобная война между русскими Севера и русскими Юга, которая есть дьявольское деяние.
Провожает гостей батюшка до самой дороги. Протягивает каждому связку восковых свечей: "Вы не смотрите, что тонкие. Они не оплывают, как стеариновые, а сгорают целиком. И потому светят долго". Екатерина прикладывается к его руке. Священник отечески благословляет:
– С Богом!
Связующее звено
– Много боли, разобщенности, трагедий, – говорит Екатерина, выруливая на трассу. – Приходится разговаривать осторожно. В провинции многие думают, стараются читать что-то неофициальное. Осмысление идет. Люди задают вопросы: точно ли все это было нужно? Они ведь видят, что это влечет смерти и разрушение семей.
На автобусной остановке возле трассы ярко синеет надпись: "А король-то голый!" Екатерина останавливается, фотографирует, едет дальше. В старом, почти вымершем селе неподалеку на детской горке зеленой краской выведено: "Россия – топчик!"
– Наша чухломская глушь прекрасна тем, что едешь много километров, и ничего не происходит. Но стоит съехать с трассы, за каждым поворотом, каждой избушкой таится своя история. Тут удивительные люди, они живут в непростых условиях, но выступают в самодеятельности, пишут стихи. К ним нельзя относиться свысока. Этот сюр мой, мне в нем комфортно и хорошо, потому что я сама такая. Нельзя подходить к нему с ненавистью – "сейчас я покажу, как тут противно". Нет, надо любить, тогда наша глушь повернется к тебе всей правдой.
Свечи аккуратно сложены на заднем сиденье рядом с непонятными ржавыми железяками. Казалось бы, им самое место на свалке, но Антон бережет их как драгоценности. Екатерина вдавливает педаль газа, старенькая "Нива" несется вдоль кромки бесконечного леса.
– Я между мирами болтаюсь. Единственное связующее звено между Россией и Западом. Это не благо, а возможность видеть детей. После возвращения жизнь моя сильно наполнилась. Хотя я благодарна первому мужу, что дети выросли европейцами, что перед ними открыт весь мир. Я вижу, насколько там больше свободы, спокойствия. Их здесь и не было, а теперь точно не будет еще долго…
Сзади показывается фура. Екатерина вжимает голову в плечи: недавно такая же смяла ее маленькую машинку, затолкала под грузовик. Никто не понимал, как она выжила, называли это чудом. На сей раз хтонь уберегла, отпустила. Как долго она позволит заглядывать в себя?
– Сложно мириться с тем, что Россия в глазах мира – абсолютное зло. Россия останется Россией, что бы с ней правители ни творили. Это моя страна. Я фиксирую нашу реальность, вытаскиваю забытые пленки, рассказываю о людях. Антон восстанавливает старинные дома. И пока возможно, мы будем делать это в России.