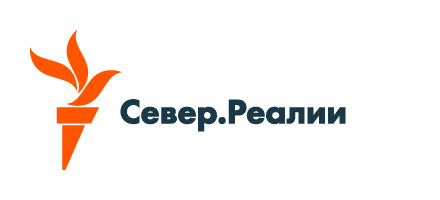6 июня – день рождения Александра Пушкина. Мем "Пушкин – наше всё" знает каждый, его водружают сегодня на свои знамена как охранители-почвенники, так и либералы-западники. Первые пытаются приспособить Пушкина к своей актуальной имперской повестке. Вторые не знают, как быть со знаменитым пушкинским "Клеветникам России", где поэт вдруг оправдал жесточайшее подавление польского восстания. И многие всерьез задаются вопросом – с кем был бы Пушкин сегодня?
В своем последнем стихотворении, написанном незадолго до смерти, в 1921 году, "Пушкинскому Дому", Александр Блок пишет:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Эти слова уже целое столетие воспринимаются как стихотворное завещание, которое Блок оставил нам, "уходя в ночную тьму". Сегодня, когда Россия ведет захватническую войну и погружается в тьму мракобесия, наследие Пушкина вдруг становится особенно актуальным.
На какие наши сегодняшние вопросы может ответить Пушкин? Можно, а главное, нужно ли судить искусство прошлого по законам нашего времени? – об этом Север.Реалии беседует с литературоведами Олегом Лекмановым и Александром Долининым.
"А кто вы такие, чтобы судить или отменять?"
– Пушкин умер в 1837 году – о каком суде может идти речь? Это касается и Бродского с его печально известным стихотворением об Украине. Судить можно Прилепина, а этих людей уже нет с нами, – говорит литературовед, доктор филологических наук Олег Лекманов. – А тексты имеют свойство жить своей собственной жизнью, и то, что во времена Пушкина, Гоголя или Бродского звучало нейтрально, сейчас звучит по-другому.
Может быть, такая рефлексия нужна, это некий заказ современности, но когда мы читаем эти бесконечные обвинения в адрес Пушкина, Бродского, Булгакова, то сам тон и сама интенция – обвинить, отменить, уничтожить, заменить слова в их книгах – обесценивают эту рефлексию и этот заказ. Когда вместо разговора тебя начинают трясти за грудки и бить головой о стену, трудно вступать в диалог. Вроде бы уровень и манера разговора кажутся второстепенными, а на самом деле это-то и не дает увидеть здравое зерно в этих рассуждениях.
– Есть известная статья Георгия Федотова "Певец империи и свободы" – так этот философ назвал Пушкина. Как это сочеталось в нем: империя и свобода?
– Когда мы говорим о такой сложной личности, как Пушкин, мне кажется, неправильно прочерчивать простую линию – был певцом свободы, а стал певцом империи. Думаю, что позиция позднего Пушкина не была такой простой – защитник империи и все. В знаменитом стихотворении "19 октября 1827" он обращается к лицеистам – и тем, кто "в мрачных пропастях земли", то есть к декабристам, и к тем, кто "В заботах жизни, царской службы", то есть к тем, кто их охраняет, и все они его друзья, и он ни от кого не отказывается. Или взять стихи "Клеветникам России", которые "zетовцы" написали на своих знаменах: если посмотреть внешним взглядом, они раздражают, особенно сегодня, когда мы видим, к чему такая позиция приводит. А дальше нужно смотреть шире: в каком положении находится Пушкин, какова линия его отношений с Мицкевичем – без ответа на очень многие вопросы ничего сказать нельзя.
Но каков бы ни был современный взгляд на события тех лет, такие слова, как "суд" или "отмена", просто лишают важный разговор смысла.
А кто вы такие, чтобы судить или отменять? Этот разговор о деколонизации нужен, он назрел – но не в истерических тонах. А наше страшное военное время совершенно для спокойного разговора не подходит. На фоне падающих бомб, гибнущих людей, разрыва отношений такие академические разговоры выглядят просто кощунственными.
– И советовать украинцам, убиваемым нашими ракетами, вслушиваться в красоту пушкинского стиха и не сносить памятники, наверное, тоже бессмысленно.
– Конечно, и требовать от них объективности – это все равно что говорить жертве насилия – в то время, как ее насилуют: давай поговорим спокойно, что ты кричишь, что ты бросаешься на меня с кулаками! Это невозможно.
"Обалдение от войны"
Известный литературовед и историк литературы, в течение многих лет преподававший русскую литературу в университете штата Висконсин в Мэдисоне (США), пушкинист Александр Долинин в своей книге "Путешествие по "Путешествию в Арзрум" замечает, что это произведение Пушкина, прохладно встреченное современниками, сегодня тоже часто рассматривается через так называемую антиколониальную оптику.
– Сейчас модно пересматривать наследие писателей, выискивать в них имперскость. У Пушкина она, конечно, есть. Но однозначно ли это плохо? Стоит ли оставить себе только такого Пушкина, который нам нравится, а оставшееся отодвинуть и сказать, что это не "наше все"?
– Мне никогда не нравились проекции современности на прошлое, особенно на давнее прошлое, все-таки Пушкин 200 лет назад жил, стоит ли смотреть туда через призму наших с вами современных, может быть, очень хороших, гуманных, правильных представлений о мире, о человеке, об истории, биологии, космосе, о Боге, о государстве и, конечно, о политике? Это всегда работает очень плохо. Мы можем повторять банальности, присваивать людям прошлого какие-то клички, обзывать их именами, которых они не знали. В сознании тех читателей таких слов, понятий не существовало. Мне кажется, что не обращать внимания на временную дистанцию между нами и Пушкиным и даже Бродским, которого теперь тоже обвиняют во всех смертных грехах, не понимая контекст, это бесперспективный и бесплодный путь. Задача филологии – помочь людям понимать. А такого рода проект, наоборот, способствует непониманию.
– Тем не менее, сегодня кто только не упрекает Пушкина в имперскости.
– У Пушкина, по-моему, не было единой системы политических взглядов. Принято считать, что они менялись от либерализма, проповеди свободы, в молодости даже отчасти революционизма – к консерватизму последних лет. Но это правильно только в общем виде.
Для Пушкина империя – это прежде всего XVIII век, героическое вторжение России в мировую политику. Еще Карамзин в "Письмах русского путешественника" отмечал: на Западе, во Франции начали замечать Россию, пишут про Россию, про великого Петра. Для Пушкина было очень важно, что Россия становится христианской империей мирового значения. Ему нравилось все, что связано с империей, эстетически – порядок, парады. Прекрасно все это описано во вступлении к "Медному всаднику". В то же время и идеал свободы, казалось бы, противоречащий идеалу империи, для него не исчезал. Он мог, конечно, написать и ужасные, с нашей точки зрения, стихи "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина", где он отрицает право польского народа на самоопределение и свободу. Хотя, казалось бы, свобода – идеал и он к нему возвращался до самого конца. Он сам же про себя сказал в предсмертном стихотворении – "в наш жестокий век восславил я свободу".
Но русские имперцы (хотя тогда так не говорили, но почти все были тогда имперцами) пушкинского времени, да, они видели смысл империи в распространения цивилизации, культуры, христианства, считали, что у российской экспансии есть позитивный цивилизационный и культурный смысл.
– При этом они совершенно не ценили, включая Пушкина, самобытной культуры покоряемых народов. Как так получилось?
– Этнографически мы не скажем, что он был слеп. Он смотрел на это эстетически: красота женщин, мужественность юношей. Какая-то внешняя сторона экзотическая его привлекала как поэта, он с удовольствием на нее смотрел, о ней писал. Но большой культурной ценности эти народности для него не представляли. Он считал, что чем скорее их цивилизуют, обратят в христианство, тем лучше. Он же в "Арзруме" писал, что необходимо миссионеров грамотных и умных посылать, так лучше будет и для покоряемых, и для покорителей. Да, можно сказать, что у Пушкина не было интереса, кроме этнографического, к малым нациям, народам, племенам, "…и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык". И при этом – "назовет меня всяк сущий в ней язык". То есть Пушкин предсказывает, что они, эти маргинальные, еще не цивилизованные народы, примут русскую культуру и будут его чтить, – замечает Долинин.
"Путешествие в Арзрум" создавалось в 1829-1835 годах, в печати появилось в 1836-м. Пушкин хотел участвовать в русско-турецкой войне, начавшейся в 1828 году, но в действующую армию его не зачислили, в выезде за границу, в Париж, отказали. Через год он поехал в Тифлис, а оттуда на Кавказ, к командующему отдельным Кавказским корпусом графу Паскевичу, который разрешил ему побыть в зоне боевых действий.
Читатели, ждавшие от Пушкина патриотического пафоса, получили совсем другое – живой взгляд путешественника, фиксирующий только то, что привлекает его внимание. "Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело", – пишет Пушкин в предисловии к книге. Александр Долинин в своем исследовании о "Путешествии в Арзрум" называет две основные цели пушкинского путешествия – вырваться из России и побывать на войне.
– Все-таки странно сегодня представлять Пушкина в таком виде – восторженным поклонником войны.
– Да, Пушкин говорил: "Войну люблю, люблю войну". Мужественная такая концепция. Но опять-таки в своей книжке про "Путешествие в Арзрум" я показал, что все это были одни слова, слова, слова. Как только Пушкин столкнулся с реальностью, он увидел, во-первых, что война, которую ведут его друзья-офицеры, это очень тяжелое неблагодарное дело, страшное и опасное. Во-вторых, сама война – это жестокость, это кровь, это убийства. Он не фиксирует этот взгляд в "Арзруме", но мертвый молодой турок так красиво лежит, он смотрит на него, и ясно, что это вызывает у него и страх, и ужас. Так что, да, с одной стороны, можно про войну сколько угодно говорить, но как только человек попадает в гущу сражения, его взгляд или, как теперь модно говорить, оптика резко меняется.
– Не у всех, наверное.
– Только у людей чувствующих и понимающих. Есть еще такое понятие, как обалдение от войны, онемение, оцепенение, блокировка эмпатии. Но не для Пушкина, конечно. Так что одно дело – это магия сражения, войны, опять-таки красота, эта война еще была не такая отвратительная, как потом, а в то время красивая форма, красиво кони скачут, всюду мечи, шпаги, пики. Сам Пушкин с пикой на турков решил поехать. Так что, я думаю, с одной стороны, пушкинский военный восторг – это такой конструкт, а с другой стороны, одна из целей, почему Пушкин вдруг написал "Арзрум" через шесть лет после того, как он ездил на войну, это все-таки сказать, может быть, свое слово про то, что, как говорили древние, войну ценят только не изведавшие ее, а кто войну изведал, тот ее страшится. Этого сейчас не понимают многие молодые люди, знающие ее только по играм, по фильмам. Я как сын фронтовика, знаю, что мой отец, прошедший самые страшные битвы, очень тяжело раненный, и его друзья, кто без ноги, кто без руки, когда собирались, о войне говорить не любили, вспоминать не любили и ненавидели ее – это общее место.
"Съездил бы ты, братец, хотя бы в Любек"
– Мне больше всего нравится в Пушкине, что он мог сегодня сказать одно, а завтра другое, да еще посмеяться над собственными взглядами. Одна из моих любимых историй про Пушкина – в "Записных книжках" Вяземского, который пишет, что Пушкин иногда любил русофильствовать. И вот однажды он увлекся, что очень не понравилось его друзьям, с которыми он разговаривал, особенно Александру Ивановичу Тургеневу, который был человек мира, объехавший весь Запад. И Тургенев его остановил: "Съездил бы ты, братец, хотя бы в Любек". Пушкин остановился, захохотал и прекратил русофильствовать. Он над собой засмеялся, что да, ругает Запад, а сам даже в Любеке не был. Мало кто, как Пушкин, мог от одной реплики засмеяться над собой и тут же все прекратить. Он увлекался словом. Я много поэтов знаю, слово опьяняет, когда ты входишь в словесную колею, то уже по ней едешь. Вот он начал русофильствовать, а потом сразу сошел с рельс.
– И все-таки как быть с его знаменитым "Клеветникам России"? И правда, трудно понять, как мог поэт, вроде бы гуманист, приветствовать такое кровопролитие в Польше?
– На самом деле это стихотворение обращено не совсем туда. Я его нисколько не оправдываю, оно мне никогда не нравилось, но тем не менее, его идея в том, что русско-польская война, которую тоже войной не называли, кажется, это спор славян между собою. И обращена вся эта инвектива западным интерпретаторам этого конфликта, русофобам, если угодно, такое слово уже существовало. Особенно французским депутатам, которые произносили страстные речи и требовали идти в поход на Москву и прекратить это безобразие силой. Это немножко меняет не смысл, а перспективу этого стихотворения. А то, что Пушкину очень не нравилась западная русофобия, – это известно из его знаменитого письма Вяземскому, где он пишет: "Никто больше меня не презирает наше Отечество с головы до ног, но мне досадно, когда это чувство со мной разделяет иностранец". Видимо, это был отклик на книжку французского писателя, который совершил путешествие по России и, вернувшись, опубликовал книгу. А дальше Пушкин Вяземскому пишет, что он бы хотел все-таки уехать из этого Отечества и увидеть Париж, железные дороги, бордели и прочее.
– Почему же он не пожалел избиваемых поляков?
– Это сложный вопрос. Опять-таки увлекся, попал не в ту колею, может быть. Ведь Вяземский, его друг ближайший, единомышленник, был в возмущении.
– Дал ему такую ему отповедь насчет того, что напрасно гордиться географией, просторами.
– Это очень важно. Они были в общем единомышленниками. Вяземский медленно эволюционировал, как и Пушкин, в сторону консерватизма и закончил жизнь монархистом-консерватором, уже совсем потерявшимся в эпохе реформ. Но его отношение к польскому восстанию, к польско-русской войне было совсем другим. Да, эпизод, с нашей точки зрения, неприятный, но у всех бывают ошибки и отклонения. Особенно у Пушкина, который действительно был переменчивый, увлекающийся человек, он мог самого себя и осудить и пересмотреть свои взгляды и представления. Есть такая теория у Бахтина, что герои Достоевского никогда не равны своим определениям. Я думаю, это ерунда, у Достоевского всегда можно понять, кто из героев прав, а кто не прав, а вот Пушкин действительно никогда не попадает в ловушку наших определений.
– Вообще, стоит ли судить поэта по его политическим взглядам?
– Я убежден, что ни в коем случае не надо. За поэта говорят его тексты, его стихи. Слово, как говорил Хлебников, самовитое, слово сильнее поэта. Поэт может сказать и то, чего он не думал, и то, что противоречит его взглядам. Взгляды – да, это интересно и для истории литературы, и для истории вообще. Но тексты, по-моему, важнее, чем их создатель. Главное внимание нужно уделять именно текстам, тому, что поэт сказал в стихах.
Я своим студентам всегда говорю: каждый из нас имеет право сказать глупость, потом просто надо будет осознать, что это глупо, что есть другие точки зрения. Но даже если поэт, тот же Пушкин, Бродский, увлекся какой-то идеей, какое-то чувство его охватило, благородная ненависть или неблагородная, он сам выше, больше, глубже, чем это неосторожное высказывание. Оно должно быть поставлено в контекст всего, что он написал. В стихотворениях "Клеветникам России", "Бородинская годовщина" нет воспевания свободы, но тема свободы потом возобновляется, Пушкин по-другому начинает думать. Так же и имперскую "Полтаву" сейчас легко модернизировать и понять как антиукраинское высказывание. Правильно ли это? Наверное, нет, надо смотреть на весь комплекс исторических представлений Пушкина, исторических представлений того времени, того, что Пушкин читал, с кем полемизировал. Все это очень сложные вопросы, и так просто отвергнуть, обругать – это неправильно.
– В связи с этим мне кажется, что вся так называемая культура отмены – это очень опасная вещь. Потому что сегодня мы берем и отменяем одно, через 20 лет у людей поменяются воззрения, они исключат другое. И где мы тогда остановимся, что останется от культуры?
– Абсолютно правильно. Когда человек впадает в ярость отмены, он готов отменить все что угодно. Я живу в городе Мэдисон, это столица штата Висконсин. Наши местные ниспровергатели, когда бушевала эта история с афроамериканцем, убитым полицейскими, пошли штурмовать наш Капитолий, сбрасывать с пьедестала статуи. И одну статую они сбросили в озеро. На следующий день выяснилось, что это один из основателей штата Висконсин, страстный аболиционист, противник рабства и защитник всех угнетенных.
– Вы изучаете связи Пушкина с англоязычной культурой. В Пушкине многие склонны видеть символ всего русского, национального, но это как-то сомнительно: "Онегин" невозможен без "Дон Жуана" Байрона, ранний Пушкин невозможен без целого круга французских поэтов, вообще Пушкин невозможен без западной культуры. Может, стоит об этом чаще напоминать?
– Пушкин и был наш первый европеец и поэт. Если присмотреться, наверное, почти каждое второе его стихотворение или поэма имеют какие-то западные, сначала французские, потом английские источники. Эту истину отвергали только во время позднего сталинизма, после войны, когда началось гонение на евреев, тогда тоже был разрыв с Западом, Запад обвиняли во всех смертных грехах. Только в эти годы, когда закрыли в Пушкинском доме сектор взаимосвязей, корили ученых, которые находили западные источники "Сказки о золотом петушке", Ахматова их нашла, то есть Пушкина хотели совершенно отделить от западных влияний. Но тогда это очень быстро закончилось, к счастью. Я надеюсь, что и сейчас этот идиотизм закончится очень быстро, потому что это непреложный литературный факт: Пушкин без западных источников, без чтения западной литературы – это не Пушкин. Посмотрите каталог его библиотеки, он доступен в интернете, там книг на русском языке, наверное, сотни две-три, а на иностранных языках – тысяч пять. Так что Пушкин вырос из зарубежной литературы. У него множество переложений, цитат, попыток перевода, законченных и брошенных. Он этим питался. Конечно, я об этом писал в своей книжке про "Путешествие в Арзрум", он мыслит себя не русским патриотом и даже не русским дворянином, которым он был и этим гордился, но прежде всего русским европейцем.
– Вы говорили, что "Путешествие в Арзрум", недооцененное современниками, хорошо легло на наше время, оценившее травелоги, дневники, документальную прозу. А что у вас любимое у Пушкина, какую радость вы бы хотели разделить с другими?
– Это очень трудно сказать. У меня была идея написать такую книжку из 20 глав, в каждой главе – анализ одного любимого пушкинского лирического стихотворения с 1817 по 1836 год. Но потом я решил, что очень трудно будет выбрать одно. Там бы могли быть какие-то самые главные стихи, я бы хотел их заново прочитать и разобрать, чтобы читатель был в восхищении. Начинаешь чем-то заниматься серьезно, каждый раз находится что-то новое и интересное, о чем ты не думал или что ты пропустил, не знал, масса интересного везде, и в прозе, и в стихах. Кажется, что про Пушкина написаны тысячи книг, сотни тысяч статей, а находишь всегда какую-то мелочь, которая вдруг тебя увлекает, открывается новая перспектива или новый взгляд. Так что читайте и перечитывайте. Пушкин лечит, Пушкин помогает, и вовсе не надо его выбрасывать ни с парохода, ни с современного авианосца.