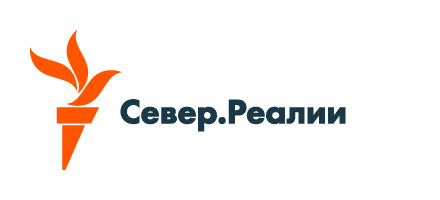Насколько российская медицина была готова к пандемии коронавируса и что стоит за цифрами, которые называют чиновники? Разобраться в этом пытаются и петербургские социологи, проводя различные исследования. Корреспондент сайта Север.Реалии выяснил, что главных цифр – например, сколько в городе аппаратов ИВЛ и сколько анестезиологов-реаниматологов – они так и не нашли.
8 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании Путина с главами регионов заявил, что в городе 1784 аппарата ИВЛ и не хватает еще 1618. Однако сам по себе аппарат ИВЛ никому не поможет, если не будет врача – анестезиолога-реаниматолога, а сколько их в городе, да и в стране, похоже, никто не знает. Во всяком случае, социолог, доцент Европейского университета в Петербурге Елена Богданова данных об этом не нашла, хотя искала довольно долго.
– Либо этих данных просто нет, либо они недоступны для широкого ознакомления. У нас в стране вообще со статистическими данными проблема. Последние годы я участвовала в разных исследовательских проектах, связанных с медициной, и еще до начала пандемии внимательно следила за медицинской статистикой. И я вижу, как работает эта система. Она работает на отчет, но не на результат. Для меня не было удивительным, что нигде нет точных данных, меня интересует, что будут с этим делать на уровне управления. Не имея данных, реагировать на эпидемическую ситуацию и управлять ею крайне сложно.
– Вы хотите сказать, что точных данных нет не только у ученых и журналистов, но и у управленцев?
– Подозреваю, что да. Я следила за развитием ситуации, за тем, какие распоряжения давали президент и его ближайшие помощники в самые первые дни: посчитать, узнать, провести инвентаризацию – было ощущение, что на самом верху никто не знает, что есть в наличии, где и в каком количестве. И это не только на уровне техники, аппаратов ИВЛ, но и на уровне оснащенности больниц, стационаров, поликлиник врачами. В Ленинградской области я нередко видела, что врачей работает значительно меньше, чем положено. То есть даже если есть некие цифры статистического учета, то совсем не факт, что они на самом деле отражают реальную картину.
– Штатное расписание может быть и не заполнено?
– Оно будет заполнено как нужно. Так, чтобы создать позитивный образ поликлиники или больницы – что она со всем справляется, вовремя отчитывается и не создает проблем начальству. Хотя в Ленобласти один участковый врач может обслуживать 6–7 тысяч человек, но это уже проблема этого врача или медсестры.
– Можно ли говорить об искажении статистики и как это может получиться?
– Существует сложная система взаимозачетов, уступок, давления. Врачу легче взять на себя лишних 500 пациентов, чем потерять работу. Один участковый врач на 6–7 тысяч жителей – это реальность, которую мы видели в своих исследованиях, и к сожалению, у такого врача еще не всегда есть своя медсестра, и он либо сам должен выполнять ее работу, либо просить сестру с соседнего участка. Устойчивость этой системы завязана на огромное количество уступок и компромиссов.
– А если врач не согласен так жить, если он говорит: мне положено обслуживать такой-то участок, принимать столько-то больных, и все – что тогда будет?
Есть чудовищный дефицит врачей, особенно специалистов, и особенно в региональных больницах
– Думаю, тогда врачу будет невозможно выжить в коллективе, где все работают сверх нормы. За это часто положены доплаты, но они совершенно не эквивалентны труду: если врач обслуживает два участка вместо одного, у него не будет двух зарплат вместо одной. В общем, есть чудовищный дефицит врачей, особенно специалистов, и особенно в региональных больницах. Чем дальше от крупного урбанизированного центра, тем меньше шансов встретить хоть какого-то специалиста.
– А что с количеством аппаратов ИВЛ? Эти цифры вроде бы есть.
– Да, есть. 8 апреля Александр Беглов сообщил о наличии в городе 1784 аппаратов ИВЛ и о "дополнительной потребности" в 1618 аппаратах. Но уже 10 апреля вице-губернатор Олег Эргашаев сказал о 214 аппаратах ИВЛ, которые есть в городе, и о том, что при необходимости их можно развернуть до 1780 аппаратов. Я так и не поняла, что на практике значит "развернуть". Мне было очень боязно, когда мы входили в эпидемию: у меня было ощущение – и оно никуда не делось, – что система у нас не способна справляться с эпидемией. Просто в силу своего устройства не способна реагировать на возникающие проблемы.
Еще неизвестно, как долго мы будем проходить через эпидемию и с какими потерями
Говорить об этом надо было давным-давно и принимать меры, но меры все эти годы принимались ровно обратные, направленные на сокращение врачей и больниц. Сейчас, возможно, есть какой-то шанс привлечь внимание к этой проблеме. Неизвестно, как долго мы будем проходить через эпидемию и с какими потерями. Все специалисты по статистике говорят, что мы узнаем, сколько будет жертв, но позже. А в официальные цифры смертности, которые говорят по Петербургу, я не верю. Что касается количества зараженных, похоже, они сами их не знают, поскольку с самого начала упустили момент с тестированием. А вот смертность, думаю, скрывают, и тому есть объективные подтверждения. Можно посмотреть на смертность врачей по разным странам и на то, какой процент от общего количества погибших составляют врачи. Где-то это 0,5%, где-то 0,6%, но нигде не больше 1%.
– Это значит, что умерших от COVID-19 в Петербурге должно быть где-то около 400, если верно число погибших врачей – 8 или 9?
– Эту цифру сейчас все берут из списка, который ведут сами медики. И там не только врачи, там все медработники: и медсестры, и санитарки. Медсестры погибают, это огромная проблема, о которой сегодня никто не пишет. Эпидемия проявляет все пороки и слабые места здравоохранения. Они есть во всех странах. Но нам сейчас важно понять, каковы наши пороки и что можно с этим сделать. Писать об этом важно: информации мало, предпринимаются колоссальные усилия, чтобы ее скрывать. Мне еще интересно, как будут скрывать смерти. В статистике их можно хоть на время припрятать, а вот перед родственниками сделать это гораздо сложнее. Пика мы еще не достигли, но судя по тому, как все организовано, как соблюдается режим изоляции, все у нас еще впереди. За списком памяти медработников я слежу, поначалу он прирастал на 10–15 человек в день. Но в какой-то момент его рост резко замедлился – до 4–5 человек в день. Я тут могу предположить некое внешнее вмешательство: про этот список стали везде писать, и я думаю, нет ли тут какого-то давления на врачей. Это только моя догадка, но я не верю в резкое снижение количества жертв, скорее верю в какую-то очередную манипуляцию. Мы сегодня в таком месте эпидемии, когда количество смертей нарастает, а не снижается.
– Почему вы говорите именно о Петербурге? В Москве иная статистика?
– Москва изначально была заявлена как главный город эпидемии. Мне кажется, там меньше искажений – может быть, в силу того, что там больше информации у самих управленцев. У нас, подозреваю, все знают гораздо меньше, а в провинциальных городах практически никто ничего не знает, и коллеги мне говорят о том же. Как следствие, я вижу огромное количество проблем в управлении. Начиная от невозможности для людей проходить тестирование, даже в городах-миллионниках, не говоря о райцентрах и местах поглубже. Все сложно и неповоротливо. Например, развернули системы тестирования в поселках, но существует проблема транспортировки анализов, потому что Роспотребнадзор запретил перевозить биоматериалы за пределы области. Одни распоряжения натыкаются на другие. Возможно, некие частные компании не всегда аккуратно перевозили, и, чтобы подстраховаться, им запретили это делать.
– Какой же вывод из этих наблюдений?
– Надо писать о проблемах системы здравоохранения, привлекать к ним всеобщее внимание. До наступления эпидемии удавалось успешно скрывать эти проблемы от большинства населения. Хотя люди, живущие не в крупных городах, давно этих проблем хлебнули. За годы оптимизации количество больниц в России уменьшилось вдвое, вице-премьер правительства Татьяна Голикова в конце прошлого года назвала ее проведение "ужасной". За те годы, что в медицине идет оптимизация, я не слышала об этой программе ни одного доброго слова от специалистов-практиков. Это было поэтапное сокращение всего, чего только можно, закручивание гаек и репрессивное давление на управленцев всех медучреждений, заставлявшее их выжимать все соки из практикующих врачей. Смысл оптимизации был в том, чтобы сосредоточить здравоохранение в крупных урбанизированных центрах, и тогда мы не сможем сказать, что у нас плохая система здравоохранения – у нас же есть крупные, оснащенные современные центры. Но для кого они доступны и насколько их достаточно для всей страны, это большой вопрос. У врачей из этих центров все время увеличивалась нагрузка и отчетность.
– Как это может отозваться статистикой смертей во время эпидемии?
– Страшных цифр мы не увидим, их будут скрывать. У меня тут самые пессимистические ожидания. Последние 10 лет наша медицинская система, как по заказу, разрушала все то, что необходимо для борьбы с такими серьезными вызовами.
Доцент факультета экономики Европейского университета в Петербурге Юлия Раскина обратилась к статистическому сборнику “Ресурсы здравоохранения в России” и нашла там довольно много данных – но далеко не все.
– Мы знаем, сколько у нас всего больничных коек, сколько врачей разных специальностей, но, к сожалению, количество врачей анестезиологов-реаниматологов там не указано. А это то звено, которое сегодня наиболее важно. И вот мы читаем, как другие врачи дистанционно обучаются этой сложней профессии на быстрых курсах, чтобы спасать людей, – анестезиологов-реаниматологов очень не хватает. Но сколько их у нас, мы узнать не можем.
– Вы понимаете, что значит развернуть 214 аппаратов ИВЛ до 1784?
– Я пыталась это понять. Аппарат ИВЛ аппарату ИВЛ рознь, есть современные аппараты, а есть простые мешки для подачи кислорода, надеюсь, что они в эту цифру не входят. Есть аппараты в машинах скорой помощи, есть аппараты для краткосрочной транспортировки больных из отделения в отделение, они могут работать, но не сутками. Есть аппараты старые, а есть современные, которые поддерживают десятки параметров, например, важный для лечения коронавируса параметр поддержания давления на выдохе. То есть современные аппараты позволяют выставить нужные режимы, а устаревшие – не позволяют. А есть на балансах больниц аппараты еще не списанные, но в которых что-то не работает. Но понять, что имеется в виду в официальных цифрах, совершенно невозможно: я не могу не верить тому, что я читаю, но верить тоже не могу. В сети постоянно читаешь записи врачей: у нас, допустим, 15 аппаратов, из них 8 списанных, 4 сломанных, в строю – 3. Поэтому те цифры, которые произносит Беглов, комментировать сложно. На сайте правительства было написано, что у нас на страну 12 тыс. реанимационных коек и 40 тыс. аппаратов ИВЛ (по данным "Медвестника", "всего по итогам оценки в ОРИТ российских стационаров имеется более 33 тыс. аппаратов ИВЛ и развернуты более 12 тыс. реанимационных коек". – СР). То есть коек явно меньше, не может же на одну койку приходиться 3 аппарата – значит ли это, что аппараты ИВЛ находятся не в отделениях интенсивной терапии? Об этом можно только догадываться. Так же как и том, какого качества эти аппараты.
– Работали ли вы с цифрами смертности?
– Тут я выработала жесткую позицию – пока у нас не будут проведены хорошие серологические исследования по поводу наличия антител, пока мы не знаем, сколько у нас заболевших, то говорить о летальности особого смысла не имеет.
Социолог Анна Темкина, профессор Европейского университета в Петербурге, давно занимается проблемами российской медицины.
– До начала пандемии мы проводили много полевых исследований, бывали в больницах как социологи, смотрели, как работают отделения, врачи, медсестры, санитарки, регистратура, приемный покой, собрали богатую этнографию и осмыслили ее. Уже до пандемии мы увидели много неопределенностей и противоречий на каждом уровне системы здравоохранения, можно сказать социологически – это поломки или разрывы. Мы анализировали и то, как справляются с этими "поломками" врачи, большинство из которых хотят работать честно, лечить и спасать людей. Опытные медицинские администраторы прекрасно понимают уровень организационных нестыковок и неплохо к этому приспособлены – в обычной обстановке, пока все идет нормально. А сейчас буквально все меняется, рутинные механизмы перестают работать, поэтому в здравоохранении возникает очень много проблем.
За врачами идет очень жесткий контроль, они не могут ничего нарушать, хотя иногда это просто невозможно
Медицина регулируется сверху вниз: над любой больницей или поликлиникой, над каждым медработником стоит множество контролирующих органов, которые уверены, что если что-то идет не так, надо еще "подкрутить гаечки", написать еще сколько-то инструкций. В самих по себе инструкциях много здравого. Беда в том, что они исходят из разных инстанций, часто противоречат друг другу или практически нереализуемы. Инструкции идут от Роспотребнадзора, Росздравнадзора, местного и федерального Министерства здравоохранения, существуют разные протоколы разного качества, экономические стандарты и прочее. За врачами идет жесткий контроль, они не могут ничего нарушать, хотя иногда это просто невозможно, если инструкции противоречат друг другу или не соответствуют местным условиям.
Все эти неопределенности стыкуются методом, который мы с коллегами назвали “ручным управлением”, когда главный врач и заведующие отделениями по многу раз звонят друг другу, чтобы договориться, как перевести больного из отделения в отделение или, не дай бог, из больницы больницу и ничего при этом не нарушить, а если случай сложный, пишут бесконечные дополнительные бумаги. Пациент недоумевает: почему все так долго? Он считает, что над ним издеваются и его проблемы никого не волнуют. Ему и так плохо, тяжело, страшно, идет время, и он начинает писать жалобы на лечащего врача, больницу, администрацию. В ответ на жалобу придут комиссии, "гаечки подкрутят" еще немного, выпустят новые инструкции. Пациент считает врача вредителем, врач пациента – несправедливым жалобщиком: профессионалы сделали все что могли, а им все равно нагорело. В западной медицине тоже огромное число проблем, но у врача сильная позиция в обществе: врач обязан принимать решения в интересах пациента и лечить его оптимальным образом. Это тоже, конечно, соблюдается не всегда, но по крайней мере врач может требовать от государства действовать в интересах пациента. А у нас главный интерес – не подставить клинику, главного врача, себя самого, коллег. Интересы пациента тоже учитываются, но чтобы обеспечить, например, его самым эффективным и, возможно, дорогим препаратом, нужны бесконечные дополнительные бумаги, заказ по тендеру, ожидание – а препарат нужен здесь и сейчас. А чтобы сейчас – это только если полночи сидеть в кабинете и обзванивать все инстанции. В сегодняшней ситуации даже хорошо отлаженные европейские системы дают постоянные и очень серьезные сбои, хотя они работают по гораздо более выверенным формальным правилам, при гораздо большей автономии врача. Нашей системой и нашими врачами пациенты и в обычной жизни часто недовольны, а в период пандемии врачи рискуют стать "козлами отпущения", на которых возлагается ответственность за то, на что они не могут повлиять.